Мы не знаем толком, каким побуждениям, внешним или внутренним, уступал Мольер, принимаясь за «Дона Гарсию». Есть основания думать, что Мадлена — ей тогда было сорок три года — упросила его написать подходящую для нее роль. Трагическая актриса, в роли Эльвиры она могла бы (если бы пьеса имела успех) дождаться последнего луча славы. Это те дни, когда Мольер бросает ее для Арманды. Можно понять слабость мужчины и автора перед старой и верной подругой. Он хочет хоть немного загладить свое предательство, дав ей возможность блеснуть в последний раз. Она так долго приносила себя в жертву, так долго ждала в его тени, когда и к ней придет настоящая известность. К несчастью, дона Гарсию играет он сам. Донно де Визе выражается без обиняков; он пишет в «Новых новеллах»: «Полагаю, достаточно будет вам сказать, что это была серьезная пьеса и что он играл в ней главную роль, чтобы вы поняли, как мало удовольствия можно было от этого получить».
Даже написанный Миньяром портрет Мольера в роли Цезаря (лавровый венок и римская тога), как бы он ни был приукрашен, не очень убедителен. А портрет из Пушкинского музея в Москве, обнаруженный труппой Комеди Франсез во время гастролей, попросту не оставляет сомнений. Мольер здесь изображен в профиль. Этот толстый любопытный нос, этот ироничный, чувственный рот, этот лоб не могут принадлежать герою, по крайней мере, как его представляли себе в XVII веке. Взгляд из-под приподнятых бровей скорее беспокойный и вопрошающий, чем царственный, он не спасает дело, а только его ухудшает. Такое суждение, неизбежно поверхностное и субъективное, подтверждается свидетельствами современников: «Природа, столь благосклонная к нему в том, что касается до таланта и остроумия, отказала ему в наружных достоинствах, необходимых на театре, в особенности же для серьезных ролей. Глухой, негибкий голос, речь, беглая до скороговорки, делали его в этом отношении много ниже актеров Бургундского отеля. От подобной скороговорки, противной подлинно прекрасному произношению, он смог избавиться лишь ценой постоянных усилий, которые на всю жизнь наградили его заиканьем. Чтобы разнообразить интонацию, он первым ввел в употребление некоторые странно звучавшие переливы голоса, из-за чего его упрекали в неестественности; к ним, впрочем, привыкли» (Ласер).
Мадлена, долгие годы бывшая такой мудрой советчицей, на сей раз ввела его в заблуждение, повинуясь собственным страстям и желаниям. Мольер — прирожденный Маскариль и ни в коем случае не должен выходить за пределы комического амплуа, где неоценимыми преимуществами становятся и сами его недостатки (чересчур быстрая, спотыкающаяся речь — мы к этому еще вернемся), и его необыкновенный мимический дар. Позднее, убедившись в своей несостоятельности, он передает роль дона Гарсии одному из собратьев, чьи данные больше соответствуют такому жанру, но пьеса все равно не имеет успеха; и с 1663 года Мольер отступается от нее и ее не публикует, хотя кое-кому при дворе и в салонах она даже нравится. Он понял, что его талант — в другом, и что одобрение тех, кого он только что высмеивал, не может указать ему истинного пути.
В узкий круг друзей, где он проводит часы досуга (это двадцатипятилетний Буало, только что напечатавший «Парижские невзгоды»[110], Лафонтен, который пока не написал ничего, кроме «Сказок»[111], и еще не стал знаменитым баснописцем, совсем юный Расин и Шапель, славный малый, вечный дилетант), входит и Фюретьер, столь мало оцененный, ибо он явился слишком рано. Фюретьер задумал написать «Мещанский роман», прозаическую эпопею буржуазии — касты, уже достаточно влиятельной, но чье общественное положение еще не дает ей права на существование в литературе. Он объясняет свои намерения: «Я расскажу вам без затей и не погрешая против истины несколько любовных историй, происшедших с людьми, которых нельзя назвать героями и героинями, ибо они не командуют армиями, не разрушают государств, а являются всего лишь обыкновенными людьми, идущими, не торопясь, по своему жизненному пути; одни из них красивы, другие безобразны; одни умны, другие глупы…»[112]
Короче, Фюретьер хочет, написать историю тех, у кого еще нет истории, и это за два века до прозаиков-реалистов. Его влияние на горсточку друзей, и особенно на Мольера, возможно, недостаточно подчеркивается. Он старший среди них, а это дает особые права в тех кружках, где мысль весит больше, чем коммерческий успех. Фюретьер — неудачливый новатор. Он забывает, что его читателям совершенно неинтересны описания их собственных радостей и печалей; они предпочитают следовать воображением за живописными триумфами и несчастьями сильных мира сего, хотя сами к ним не принадлежат. Императорский пурпур, золото королевских венцов для них неотразимо привлекательны. Мольер добьется успеха там, где Фюретьер потерпел поражение. Пурпур и золото его так же мало занимают, как Фюретьера; но он превратит своих персонажей в общечеловеческие типы, а тем самым — в героев и героинь. В этом секрет его победы. Опыт Фюретьера был преждевременным, обреченным на неудачу. Мольер этот опыт осуществит, прибегнув к хитрости, вынесет его за пределы времени. Самые яркие мольеровские персонажи как будто просто выражают свою эпоху; в действительности же они воплощают извечные грани человеческой души. Невзирая на их речь и костюм, они сравняются величием с императорами и королями из возвышенных трагедий.
Но мы забегаем вперед. Мольеру сорок лет, и он влюблен. Он хочет блеснуть перед Армандой, ослепить эту девятнадцатилетнюю красавицу. Он не может смириться с обидным (и заслуженным) провалом «Дона Гарсии». Ему нужен немедленный и громкий успех, равный по крайней мере успеху «Жеманниц». Он теперь окончательно убедился, что самый верный путь для него — руководствоваться собственными наблюдениями и впечатлениями, что лучшая пища для его творческого гения — его собственная личность. Он еще испытывает почтительный трепет перед своими учителями, старинными авторами. Но любовь делает его смелее, тем более что это не любовь юноши, а тайная, всепожирающая страсть зрелого человек к молоденькой девочке; такие не прощают. Уже в «Доне Гарсии» он набросал очень робкое, прикрытое флером изображение своей мучительной, беспричинной ревности. Обрывки этой пьесы он подберет в «Мизантропе», вложит их в уста несчастного Альцеста. «Урок мужьям» он сочиняет совсем в другом настроении. Он счастлив. У него есть самые серьезные основания надеяться, скорее всего, и доказательство, что Арманда его любит или, по меньшей мере, не запрещает себе его любить.
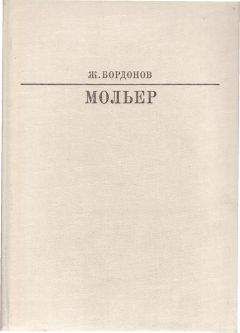



![Жорж Бордонов - Мольер [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/43891/43891.jpg)
