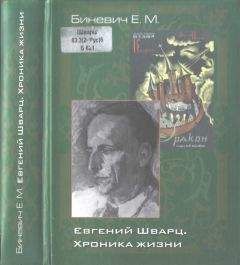«Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, — чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Также не любил я и не принимал ритмическую прозу Пильняка, его многозначительный, на что‑то намекающий историко — археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в ЛЕФе была своя. Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне…»
Такой дорогой оказалась для Евгения Львовича тропинка в детскую литературу. Нет, именно по тому, о чем он говорит, он неминуемо должен был встретиться с Маршаком и прийти в «Еж».
Впрочем, еще до «Карты с приключениями» в «Еже» был «Рассказ Старой Балалайки», написанный раешником, то есть размером, никак не почитаемым в толстых журналах, но пришедшимся очень ко двору в журнале «Воробей», выходившем до «Нового Робинзона» и «Ежа». С этим рассказом Шварц пришел к Маршаку.
Дальше мне писать очень легко. И потому что Евгений Львович оставил в своем дневнике страницы, посвященные их совместной работе, и потому еще, что сам я пережил нечто сходное в собственных отношениях с Самуилом Яковлевичем и отчетливо, до малейших подробностей, представляю себе, как шла эта работа.
Помимо своих других великолепных талантов, Маршак обладал еще и удивительной особенностью: он не мог не очаровывать всех, решительно всех, с кем доводилось ему общаться. Это было столь же свойственно ему, как ходить в очках, писать стихи. Делал он это, сам того не замечая, но неизменно открывая для себя и, главным образом, для дела своей жизни новых и новых людей. Они уходили от него очарованные, влюбленные, с сознанием, что нет ничего важнее, чем творить великую литературу для самых маленьких. Как он говорил с ними об искусстве! Какие привлекал имена! Как в его разговорах раскрывалось прекрасное и вечное, в постоянном и близком соседстве с которыми и он жил!
В этой связи мне вспоминается один из устных рассказов Владимира Яхонтова.
Высоко в горах живут рядом Бог и Бах.
Утром Бах выходит из своего жилища и говорит: Здравствуй, Бог!» И Бог отвечает ему: «Здравствуй, Бах!»
Примерно таков был головокружительный уровень, на который в своих разговорах с молодыми поднимал их Маршак.
Я очень точно представляю, какими словами встретил он молодого журналиста, до того работавшего в газете «Кочегарка», выходившей в славном шахтерском городке Артемовске.
Куда там Донбасс с его терриконами, с угольной пылью, со смешанным украинско — русским говорком и жаром доменных печей!
Здесь развертывалась феерия, стихия огня и страсти, неумирающая вековечная поэзия, столетняя слава мировой культуры. Здесь упоминались Коран, Озерная школа, барбизонцы, народность, Хлебников, Державин, быть может, даже Кантемир с его классическим: «Уме недозрелый, плод недолгой науки». Но как раз этого‑то последнего Маршак никогда не давал почувствовать собеседнику. Его собственный ум, отточенный во встречах с множеством замечательных людей, от Стасова до Горького и Маяковского, которому очень нравилось словосочетание «тетя лошадь», созданное Маршаком, никогда не противостоял «недозрелому уму» новичка. Здесь было другое: интеллект опускался до тебя, чтобы вместе с тобой взойти на горные высоты, туда, где обитают Бог и Бах, где Шекспир, Пушкин, где самый воздух так прекрасен, так сладостен, что дышать им легко и весело, потому что садиться за письменный стол надо в отличном настроении.
Шварц вспоминает:
«Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удавалось, хотя он, случалось, пробегал быстро маленькими шажками саженей пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли».
А отделиться хотелось. Помню, Самуил Яковлевич познакомил меня в Москве с Владимиром Евграфовичем Татлиным, художником, автором широко известного «Проекта памятника Третьему Интернационалу».
Зачем познакомил меня Маршак с Татлиным? Все для того же. Он считал, что атмосфера вокруг искусства, вокруг молодых художников должна быть чистой, животворной и животворящей. В больших целях и рука приобретает твердость, а в искусстве нет нестоящих подробностей: там все подробность, все деталь, но такая, которая строит целое.
Вот почему, как вспоминает Шварц: «Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях, будто от нее зависело все будущее детской литературы».
Дело было в том, что Маршак любил работать и что работа доставляла ему наслаждение. Послушайте, как он читает свои стихи (к счастью для нас и для грядущих поколений, были сделаны магнитофонные записи), и вы всегда различите в его грудных, слегка приглушенных интонациях проходящую по особенно удавшимся строчкам радостную улыбку. Видимо, ему нравилось читать, нравилось чувствовать, как ладно, как точно уложены слова и как вольготно им.
Горький не раз любил повторять, что «язык есть первоэлемент литературы», и все мы, к которым это утверждение пришло через нашего учителя, поверили в него неукоснительно. Строжайшая языковая дисциплина — вот что составляло основу основ заповедей Маршака: никаких «холодных косточек глаз», никаких отсебятин!
Шварц вспоминает:
«У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: как народно! (Почему и принят был «Рассказ Старой Балалайки»). Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: «стилизация», «литература», «переводно».
Ведь сам Маршак переводил отнюдь не «переводно», под его пером и английские народные песенки вроде «Шалтая — Балтая», и шотландец Роберт Берне, и вообще все то, к чему прикасался он своим искусством, становилось русским, близким сердцу волжанина, москвича. Причем это ни в коем случае не был «перевод на язык родных осин».
Здесь, как мне кажется, происходило нечто сходное с тем, что было у Пушкина, который в «Каменном госте» испанец, в «Песнях западных славян» — серб или черногорец, но везде и всегда русский.
«Рассказ Старой Балалайки» появился в журнале «Воробей», редактировавшемся Маршаком и выходившем при «Ленинградской правде».