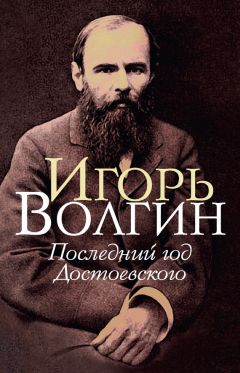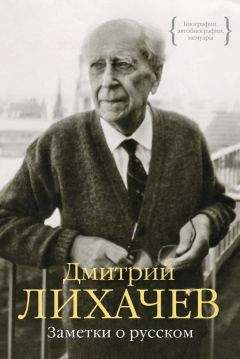Судьба действительно переменилась (он был произведён в унтер-офицеры, а затем получил первый офицерский чин), но «сверхзадача» так и не была решена. Главная цель, ради которой он готов был предпринять и не такие поэтические подвиги, эта цель оставалась столь же недосягаемой, как и раньше. Новый государь, согласившись на производство его в прапорщики, приказал «учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадёжности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды»[351].
Это было в 1856 году. Именно с этого момента началась негласная государственная опека, продолжавшаяся почти двадцать лет (он полагал, что двадцать пять). Казалось бы, по точному смыслу высочайшего предписания «секретное наблюдение» должно было прекратиться с того момента, когда ему дозволят печататься; на деле «совершенное удостоверение» в его благонадежности отодвинулось почти на два десятилетия.
Да и наступило ли оно вообще?
Если Александр II знал (а точно ли он не знал?), кто является автором поднесённого ему текста, тогда его недоумение кажется не столь уж странным. Упрёк Славянскому благотворительному обществу (даже смягченный высочайшей усмешкой) выглядел несправедливо. Чего нельзя сказать о намёке в адрес бывшего политического преступника: повод с его стороны для «солидарности с нигилистами» мог бы отыскаться всегда.
Его давние стихи преследовали чисто утилитарную цель: доказать. Доказать действенность наказания, искренность раскаяния, лояльность. У адреса 1880 года задача была совершенно иная: указать. Указать власти на возможность такого мироустройства, при котором самодержавие и свобода станут надёжнейшими гарантами друг друга.
Но указание на второе из этих понятий свидетельствовало о тайном сомнении в первом.
Разумеется, адрес, как и стихи, тоже не был его специальностью. Но он, сочинитель, не превратился в слепое орудие жанра: сам жанр был побеждён и вынужден был служить его целям.
Глава VIII. Свидетель казни
Государственный переворот
Итак, проект адреса был принят в общем собрании Славянского благотворительного общества. Это произошло 14 февраля. На следующий день в петербургских газетах появился именной указ от 12 февраля об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Ей вменялось в обязанность «положить предел беспрестанно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок».
Правительство вышло из недельного шока, последовавшего за взрывом в Зимнем. Диктатура, к которой не уставали призывать «Московские ведомости», была наконец установлена.
Однако это была диктатура особого рода. Дело заключалось в имени. Главным начальником Верховной распорядительной комиссии стал граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.
Выходец из древнего армянского рода, боевой генерал и недавний покоритель Карса, он привлёк к себе внимание России не только этим победоносным штурмом. Уже в мирное время ему удалось одержать верх над ветлянской чумой, поразившей устье Волги и страшившей жителей обеих столиц. (Впрочем, поговаривали, что последняя победа досталась графу даром: чума прекратилась ещё до его прибытия.) Будучи в 1879 году назначен генерал-губернатором Харькова, он ухитрился не повесить там ни одного человека (не в пример своим коллегам в Киеве, Одессе и Петербурге), чем и завоевал симпатии поражённых таким обстоятельством либералов.
Его не зря называли «вице-императором»: дарованные ему полномочия были почти безграничны. Ему предоставлялась власть «делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми… как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи»[352]. Он становился главноначальствующим в городе Петербурге, ему подчинялись III Отделение и корпус жандармов. «Человек со стороны», далёкий от двора и почти неизвестный в высших сферах, превращался в фактического правителя России. «Ни один временщик, – признавался он впоследствии, – ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев – никогда не имели такой всеобъемлющей власти»[353].
«Диктатура полнейшая, – записывает 15 февраля в своём дневнике А. А. Киреев. – Вице-император. Что ж, если настоящему Императору не удаётся сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно»[354]. И повторяет ту же мысль в письме сестре – О. А. Новиковой: «Делегация почти царской власти Лорису есть полуабдикация (отречение от престола. – И.В.), с другой стороны, что же делать?»[355]
Учреждение Верховной распорядительной комиссии было своего рода государственным переворотом сверху. С первых же шагов Лорис-Меликов постарался показать, что будет пользоваться вручённой ему властью с известной осторожностью. Его обращение «К жителям столицы» было составлено в решительном и одновременно намекающем тоне.
«Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, – заявлял начальник Верховной распорядительной комиссии, – могу обещать лишь одно – приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни пред какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой – успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части. Убеждён, что встречу поддержку всех честных людей, преданных Государю и искренно любящих свою родину, подвергшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям».
Далее следовало самое примечательное: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества»[356].
К обществу впервые обращались по-человечески; более того – обращались с просьбой. К подобному языку не привыкли.
Так начиналась «диктатура сердца».
У Достоевского могли явиться некоторые надежды, что программа, изложенная им 14 февраля (этим же днём помечено обращение Лорис-Меликова), имеет хоть какой-то шанс осуществиться. Как же отнёсся он к столь резкому повороту государственной жизни и – к самому Лорис-Меликову?
Опасения и упования
Первое, что его беспокоит, – это в чьих руках окажется дело. Он настойчиво вопрошает Суворина («точно я что-нибудь знал», – скромно замечает последний), «хорошими ли людьми окружает себя Лорис, хороших ли людей пошлёт он в провинцию? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего». Как и всегда, Достоевского волнует не форма, а суть, чисто человеческая сторона проблемы. Для него не столь важно, хороши или плохи те или иные установления: он хочет знать, кто будет проводить их в жизнь.
Он желает убедиться в исторической компетентности нового руководителя государства, в глубине его ретроспективного понимания русской жизни. «Да знает ли он, – не отстаёт от Суворина Достоевский, – отчего всё это происходит, твёрдо ли знает он причины?..»
Иными словами: понимает ли Лорис свою миссию только в первом приближении – как непосредственную борьбу с крамолой, или же у него достанет сил пойти вглубь, осознать проблему, которую он призван решать, не в категориях привычного, инерционного, сугубо бюрократического мышления, а в контексте всей русской истории? «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть…»[357] – сердито добавляет Достоевский, и похоже, что в данном случае его раздражение направлено против тех, кто полагает простым искоренением «злодеев» искоренить само злодейство.
15 февраля (то есть в день, когда появилось воззвание Лорис-Меликова) Софья Ивановна Смирнова (Сазонова) посетила Достоевского.
Она записывает в дневнике: «Б<ыла> у Достоевского. Он сидит больной, недавно б<ыл> припадок. Рассказывает мне план св<оего> романа. Гов<орит> о верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К общ<еству>» плохо редактировано…»[358]
Он пребывает в двух жизненных кругах одновременно: в своём всё время расширяющемся романном мире и в том, который свидетельствует о себе со столбцов сегодняшних газет. Эти круги незримо связаны между собой. Кто знает, может быть, и Смирновой (Сазоновой) он поведал о том же, о чём в эти дни толковал с Сувориным: об Алёше, совершающем «политическое преступление» и гибнущем на эшафоте.
«Говорит… как Лорис-Меликов будет ловить революционеров» – в этом нейтральном неразвёрнутом сообщении можно ощутить всё тот же акцент: опасение, что дело ограничится только административными мерами.