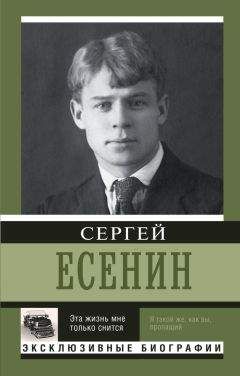Мы шли медленно. Есенин быстро трезвел. Шел тверже.
И стал говорить:
– Знаешь, знаешь, я ведь ничего не люблю. Ничего… Только детей своих люблю. Люблю. Дочь у меня хорошая – блондинка. Топнет ножкой и кричит: я – Есенина!.. Вот какая дочь… Мне бы к детям в Россию… а я вот мотаюсь…
– Фамилия у тебя хорошая: осень, ясень, есень, таусень.
– Да – это ты верно. Фамилия замечательная. Языческая. Коренная. Мы – рязанские. Это ты верно. Я и Россию ведь очень люблю. Она – моя, как дети.
На площади стояли зазябшие сосисочники с никелевыми кухнями. Продребезжал фиакр с вихляющимся на козлах пьяным кучером. Мы перешли площадь. И опять пошли коричневыми сумерками улиц.
– Я Россию очень люблю. И мать свою люблю. И революцию люблю. Очень люблю революцию…
Коричневая краска уже редела сивыми полосами. Откуда-то мягко зачастили автомобили. На ветках пыльных деревьев проснулись воробьи. Мы стояли на углу Мартин-Лютерштрассе. Я простился с Есениным. И тихо идя, еще слышал что-то рассказывавший есенинский голос.
Потом были вечера – у Кусикова. Там пилось и пелось. Кусиков – цыганское под гитару. Есенин – частушки под балалайку:
У бандитов деньги в банке,
Жена, кланяйся дунканке! —
выкрикивал Есенин под веселое тренканье.
Но это недолго. Последний раз я видел его на улице. Он шел трезвый. Растерянной походкой. Словно куда-то торопился, а сам не знал, куда и зачем. Был он так же бледен. В пальто, запахнутом наспех.
Глеб Васильевич Алексеев
Сергей Есенин. Живые встречи
Русское зарубежье о Сергее Есенине. Антология. – М.: Терра – Книжный клуб, 2007.
В продолговатый коридор, похожий на саркофаг, выделанный изнутри мрамором тяжелопузых колонн, бронзой дверных ручек, надписей на тоненьких, как страусова нога, цоколях, стрельчатыми, раскоряченными лапами часов – торопясь, входили люди, озабоченно разговаривали с людьми, сидевшими в камерах, зашнурованных надежной решеткой, похожих на клетки, шарили в карманах, вытаскивая помятые, шуршащие документы, укладывали в портфели деньги, вынимали их зелеными, туго обинтованными накрест пачками, потом озабоченно уходили. Нутро большого торгового города стекалось сюда всеми своими ручьями – одним принося богатство, другим разорение, словно это была станция, а поезд-биржа – сотней телефонов и телеграфов связанный с нутром саркофага, проносился рядом, уловимо близко. На выгнутых с резными спинками скамейках дожидались хорошо обряженные дамы с открытыми почему-то ридикюлями, старушки в чопорных, немнущихся на коленях платьях, мимо неторопливо прохаживались мужчины с портфелями, исподволь следя за стрелкой, наползавшей к цифре 1 – в час банк закрывался.
Часов в 12, когда движения спокойных людей, сидевших в камерах, вдруг стали нервными, а у окошек выгнулись хвосты боявшихся опоздать, – в банк вошел человек в велосипедном шлюпике, насаженном на затылок, в широком английском пальто, обвисшем на нем как колокол, и в белых парусиновых, окаченных автомобильной грязью ботинках. Он в нерешительности остановился возле швейцара, снял шлюпик и, держа его в руке, пошел было ближе, но потом раздумал, сел на стул и внимательно осмотрелся вокруг. Его волосы, кружком скатившиеся на лоб, доставали почти до бровей, бесцветных и белесых, вокруг глаз набежали морщины и, набежав, затвердели радугой. Он в нерешительности мял картуз, вбок поглядывая на деловую толпу, сам ей чужой, будто испугавшийся ее планомерного бега, в котором каждому было свое место и не было лишь ему. Потом он достал папиросу, закурив, – широким жестом отшвырнул спичку на колени сидевшей напротив дамы с птичьими крыльями на шляпе и, куря, стал выпускать дым в сторону – в желтое и лысое как бильярдный шар лицо соседа – крепкий саднящий дым махорки РСФСР, купленной только вчера в Москве. Казалось, что человек в шлюпике с интересом наблюдал, что произойдет дальше. Остановятся стрелки часов, люди выскочат из-за решеток, дама, которой спичка упала на колени, скользнет со стула в обмороке, а немец, зачихавший в крепком дыму РСФСР, поднимет трость – человек в шлюпике улыбнулся, закладывая ногу на ногу, белым ботинком на колени. Но немец, учтиво сняв шляпу, пробормотал:
– Verzeihung. (Извините) – и пересел на другое место.
Тогда рядом с человеком в шлюпике вырос сторож – в длиннополом мундире, прокрапленном начищенной медью пуговиц, посмотрел пристально на белые ботинки – и они сами скользнули к полу, в надлежащее положение. Человек в шлюпике застенчиво улыбнулся и, встав, подошел к кассе. Там он попробовал с помощью рук что-то растолковать кассиру, совал ему под нос билет и кипу каких-то удостоверений, потом устал и, махнув рукой, неловкой походкой пошел к выходу.
Я узнал его и нагнал у дверей.
Он все такой же – не вырос, маленький, как в Москве лет семь назад, все так же удивляются его глаза и застенчива улыбка, сдвигающая к ресницам кольца обветренных морщин. Если бы снять с него пальто да на ладный кружок кучерских, непослушных волос насадить картуз по брови – звонил бы он у Николы на Посадях, сам удивляясь, как из-под медных дылд, болтающихся в руках на веревках, слетают вниз согласные звуки малинового звона. Если б снять с него белые ботинки да в опорках на босу ногу с длинным кнутом, обжигающим, как выстрел, пустить по плотине в вечерний час, когда по-над рекой играет бубенцами стадо, а окна деревенских хат – что красный мак на солнце, – пел бы он песню, пастушонок, пел бы он звонкую, и бабы, возвращаясь с жнивов, разломавших бедра, и старики, поджидающие стадо у плетней, улыбнулись бы молодости, порадовались жизни, простой и понятной под крестьянским небом. Если б снять с него городской наряд да в степь – на связку разбегающихся дорог, под ветер, шипящий растревоженным кустарником, выпустить с ножом в голенище – поджидал бы он купца на тройке, засвистал бы товарищам в четыре пальца, подраненного, в смертной муке свалившегося в кузовок, дорезал бы – из озорства. Такие – в бабки здорово играют, полкона снимают, хоть и махонькие, грозные атаманы и отрясатели чужих яблонь, и девкам на селе от них проходу нет. Прежде, когда тракты были, а на трактах водка, а на дорогах – вольная песня ямщичья, такие в ямщики шли. Душу вывернет седоку песней, степь заворожит, а на юрах да опушках побаивайся, за суму держись крепко – знает, что под тельником зашита, ножичек за голенищем щупает. Прежде такие вот сами к монастырям приходили и принимали на себя послух великий: год и два поет на клиросе – женоподобный, юркий да щупленький, а к работе горяч, игрушечный монашек старцам на утешение, служка игумена самого, а в одно утро уйдет, только и найдут на несмятой постели островерхий с ямкой спереди монашеский наперсток. Да разве потом о. Паисий или о. Аристарх, собирающие по дорогам на построение нового храма в обители, поведают братии, что видели Сергуньку в портовом городе в кабаке, пьянствовал с матросами, на гармонике – чудо как хорошо играл и ругался словами самыми непотребными. Тесно таким вот тихоням в родном селе, оттого и шли по шляху да по степи разгуляться забубённые, ласковые певуны, а воры щупленькие, а с ножичком – принимала их потом каторга – одна и по плечу, пестовала тайга непроходная – одна и по песне: во четыре пальца свист. И не раз крыли они Русь молодецким посвистом, по степи погуляли не раз – Стенькой ли Разиным, Пугачем Емелькой, Гришкой Отрепьевым, – тремя святителями подъяремной тишины.