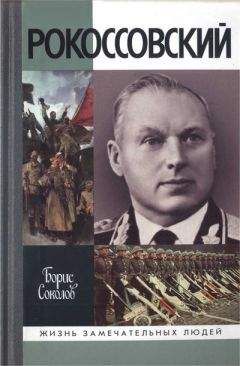Почти две недели гремели, не умолкая, тысячи орудий, словно живая, судорожно билась от взрывов земля; отброшенные к Дунаю, на последнем дыхании бились пехотинцы и артиллеристы, танкисты и саперы с превосходящими силами врага. Там же, на главном направлении вражеского наступления, держали оборону казаки 5-го Донского корпуса.
Смотрю на лежащую предо мной ветхую газету с сообщением о казачьем параде. Как давно это было! Сколько отшумело веков с тех пор, как они появились на Руси. Сколько славных дел совершили верные сыны Дона и Кубани, Терека и Урала, Оренбуржья и Сибири! Сколько полегло их на широких просторах, защищая от врагов родную землю! Но казаки и ныне верны своему долгу, готовы до последних дней своих нести нелегкую службу во имя родины, во имя великой России.
Оговорюсь сразу: Борис Михайлович Шапошников — начальник Генерального штаба Красной Армии, о котором пойдет речь, в 1938 году имел звание командарма первого ранга. Маршалом он стал немного позже, через два года, но эта авторская вольность, вынесенная в название нашего рассказа, никак не влияет на суть произошедшего. Обо всем том мне рассказал сподвижник Шапошникова генерал Хренов.
Впервые с Аркадием Федоровичем я встретился в Лодейном Поле — небольшом городке на Свири, где еще в петровские времена на верфях ладили корветы да фрегаты для российского флота. Отсюда и пошло Лодейное. Тогда в городе происходили юбилейные торжества по случаю форсирования реки и наступления советских войск, и нас, как участников, пригласили. В 1944 году генерал Хренов возглавлял там инженерную службу Карельского фронта, а, мне, лейтенанту, командиру роты, пришлось форсировать простреливаемую вдоль и поперек полноводную Свирь.
После этого мы еще встречались, и каждый раз узнавал от генерала много нового, интересного и по тем временам запретного. За свою долгую службу он побывал на различных высоких постах, встречался с большими людьми и к тому же был умелым рассказчиком. Он участвовал в финской войне и там стал генералом, Героем Советского Союза. Потом были Одесса, Севастополь, Керчь, Волховские рубежи, Ленинград, Карелия, Дальний Восток. Ныне у него высокий чин: генерал-полковник.
Я вспоминаю последнюю с ним встречу. Приехав в столицу, я позвонил ему. Услышал знакомый баритон.
— Так вы в Москве? Тогда приезжайте, завтра же, непременно! А я недавно выбрался из госпиталя, лежал с переломом руки.
В назначенное время я сошел на указанной остановке проспекта. Напротив дом-гигант. Проходя мимо, обратил внимание на мемориальную доску с указанием, что здесь жил маршал авиации С. А. Худяков. «Тот самый, что в 1945 году бесследно канул в неизвестность», — отметил я про себя. Рядом с домом широкий бульвар, деревья в золотистом багрянце. Неподалеку от аккуратной церкви доносился переливчатый звон.
В дверях вырос сам Аркадий Федорович. Небольшого роста, сильно сдавший, но с угадываемой армейской выправкой в свои восемьдесят шесть лет. Поседел и поредел на голове ежик.
Вначале разговор зашел о его книге, которую он незадолго до того прислал мне. Посетовал на издательство, что сильно урезали, и многое не вошло в книгу.
— Войдет во вторую, — попытался я успокоить.
— Поздно писать. Все что мог, сделал.
Вспоминали эпизоды форсирования Свири, разглядывали фотографии. Запомнилась одна: солдат в полном снаряжении и в каске ухватился за борт перевернутой лодки, а течение гонит его. В глазах непередаваемое, пальцы судорожно сжаты, намертво вцепились в спасительный выступ посудины.
— Кто это? — спросил я, вглядываясь в глаза солдата.
— Телефонист. Наводил линию, а взрывом лодку перевернуло. Он даже катушку с проводом не успел сбросить с плеч. Видите: у него лямка.
— Спасли?
— Спасли. Даже к медали представили. А вы-то сами как переправлялись?
— Налегке: автомат, пистолет, еще пару гранат на поясном ремне, да командирская сумка.
— А противогаз?
— Их приказали сдать старшине. Иначе бы побросали.
Генерал понимающе улыбнулся, покачал головой.
Я поинтересовался судьбой маршала авиации Худякова, чье имя упомянуто на мемориальной доске. Он пожал плечами, загадочно промолчал.
— Слышал, будто его после войны судили, — попытался я вызвать генерала на разговор.
— Да только ли его! — произнес он.
Потом разговор зашел о маршале Толбухине, командовавшем фронтом на Миусе. Я спросил: знал ли он его?
— Тюню? А как же!
— Тюню? — не понял я. — Какого Тюню?
Он улыбнулся.
— В старину так ласково называли детей с именем Федор. Вот и его так называли, нашего Федора Ивановича. Мы с ним служили в одном батальоне.
Потом вспомнили генерала Хозина, под начальством которого мне довелось служить. Он и его хорошо знал.
— Михаила Семеновича помню по Ленинграду, он командовал военным округом, а я был начальником инженерной службы, имел звание комбрига, носил по ромбу на петлицах. До Хозина командующим Ленинградским округом был Борис Михайлович Шапошников. В мае 1937 года он убыл в Москву, принял Генеральный штаб, а Хозин вступил в командование Ленинградским округом…
Он неожиданно замолчал, будто споткнулся обо что-то незримое, тяжело вздохнул. После затянувшейся паузы продолжил глухим голосом:
— Тревожное, более того, смутное было время Многое пришлось пережить, особенно начальникам, высоким чинам. Вы же помните, наверное, что тогда был суд над Тухачевским и другими военачальниками, и коса Ежова работала вовсю. Тогда уж и маршала Блюхера забрали, и Егорова. И даже затеяли дело против Шапошникова…
— Бориса Михайловича?
— Именно!
— Но он же входил в состав военной коллегии, когда судили Тухачевского, — сказал я.
— Совершенно верно, входил, а на следующий год их всех, всех, за исключением Буденного, арестовали.
— А Шапошникова?
— К Борису Михайловичу подбирались и тоже шили дело. Об этом он знал. Чесались по нем руки у Ежова.
Ежов в то время возглавлял НКВД и усердствовал вовсю перед Сталиным, стараясь доказать преданность. По его вине и одобрению вождя в тюрьмах и лагерях томились тысячи и тысячи честных, ни в чем не повинных людей: из тех, кто избежал смерти. Льстя «железному» наркому, о нем из страха слагали песни и стихи.
У меня сохранилась газета того времени со стихами небезызвестного Джамбула, посвященными Ежову. Вот отрывки из этого «шедевра соцреализма»:
…А враг насторожен, озлоблен и лют.
Прислушайся: ночью злодеи ползут,
Ползут по оврагам, несут изуверы,
Наганы и бомбы, бациллы холеры.
Но ты их встречаешь силен и суров,
Испытанный в пламени битвы Ежов…
Враги нашей жизни, враги миллионов,
Ползли к нам троцкистские банды шпионов,
Бухаринцы, хитрые змеи болот,
Националистов озлобленный сброд.
Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попались в капканы Ежова.
Великого Сталина преданный друг
Ежов разорвал их предательский круг.
Разгромлена вся скорпионья порода
Руками Ежова, руками народа.
И Ленина орден, горящий огнем,
Был дан тебе, сталинский верный нарком…
— Борис Михайлович Шапошников в военных кругах занимал особое положение, — продолжал рассказ Аркадий Федорович. — Большинство военачальников родились и выросли в годы гражданской войны, военного образования не имели. А Шапошников — царский полковник Генерального штаба, военное дело знал в совершенстве, лучший штабник, не чета наркому Ворошилову. В первой мировой войне он занимал высокие посты в больших штабах, командовал дивизией. Перейдя на службу в Красную Армию, он возглавил оперативное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики. По сути, его рукой разрабатывались главные стратегические операции. Таких военспецов, как Борис Михайлович, было немного.