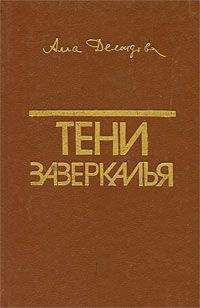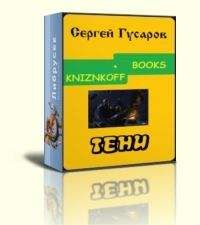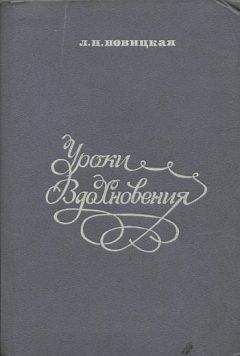Те же муки с костюмом были в «Шестом июля».
Сохранилась кинохроника со Спиридоновой. Она была дочерью генерала. Всегда ходила в корсете, в большой шляпе — с какими-то перьями, с большими-большими полями. Красиво. Я согласилась. Спиридонова по хронике — брюнетка с широкими черными бровями. Мне надели черный парик, красивую шляпу, корсет — портретно похоже. Но я подумала, что такой костюм меня уведет в те классические роли женщин, совершенно не связанных с политикой. И тогда я попросила сшить костюм не на студии, а в современном ателье. Потому что мне нужно было, чтобы это был костюм с современными линиями, из современного материала, но силуэт костюма из того времени. Размер — на два номера больше, чем я ношу. Мне казалось, что складки, опущенные плечи платья — подсознательно вызовут у зрителя чувство обреченности героини.
Или, например, «Тартюф»… Спектакль забавно был для того времени оформлен. Рисованные в больших рамах персонажи спектакля. Аникст и Бархин принесли прекрасные эскизы костюмов. Но у меня, Эльмиры, во II акте — сцена раздевания, а ведь платье не снимешь! Поэтому я придумала плащ, который можно снять. Придумала верхнюю деталь — такое фигаро с пышными рукавами, которое тоже можно легко снять. И я оставалась в вечернем платье на бретельках, в котором не стыдно показаться перед зрителями. И в то же время — целых две детали сняты, и все на глазах у публики. Я уже давно не играю этот спектакль, но никогда не забуду, как зрительный зал взрывался аплодисментами и стонал от хохота именно на этой сцене раздевания.
* * *
— Вы играли Шекспира, Мольера, Толстого, Чехова… Есть ли общеев у этих авторов для вас — актрисы?
— Вы коснулись очень для меня интересного и, увы, обширного вопроса. Чтобы не говорить о разных временах, давайте поговорим о Толстом и Чехове. Я сыграла Лизу в «Живом трупе» и Пашеньку в «Отце Сергии», Аркадину в «Чайке», Раневскую в «Вишневом саде», Машу в «Трех сестрах».
У Толстого чувство выражено словом, у Чехова словом чувство прикрывается. У Толстого слова ясные, конкретные. За ними глубина, но глубина прямая. Мелодия суховатая, иногда тяжко-скорбная. У Чехова слова легкие, беспечные, вроде бы несерьезные: люди болтают о пустяках, шутят, смеются, показывают фокусы, бранятся, сплетничают, как будто ничего не случилось. Словами загораживаются от жизни, а подтексты как глубокие лабиринты.
Толстой — учитель, пророк, врач, дающий рецепты. Чехов — поэт, художник, врач, ставящий диагноз. Толстой — глубоко верующий человек, поступки почти всех его героев определены верой. Чехов — атеист. У Толстого с высоты «отвлеченной морали» чувствуется неприятие слабостей грешных людей. У Чехова — понимание. У Толстого каждая роль — конкретный характер, конкретный человек, который поступает так, как может поступить только он. У Чехова жизнь героев не заключает в себе вроде бы ничего исключительного, сильного и яркого, но зато что ни роль — Тема.
Играть Толстого и Чехова — счастье. Но можно ли их играть одинаково?..
Невооруженным глазом мы видим не много звезд, в их числе привычные очертания Большой Медведицы. В телескоп удается различить уже больше звезд, и тем больше, чем телескоп мощнее; а уж на фотопластинке с высокой разрешающей способностью мы видим их сотни, тысячи, среди них очертания Большой Медведицы могут и потеряться — но ведь это все тот же участок неба! Просто мы узнали его полнее, глубже.
Вот к этой высокой «разрешающей способности» и должен стремиться актер, играя классику.
Классика — шар, у нее тысячи точек соприкосновения с современностью. Художник нашего времени не только не имеет право, но и обязан видеть в достояниях мировой театральной культуры больше, чем его предшественники, и, может быть, больше, чем видел сам автор.
— Существуют разные актеры. Одни за сутки до спектакля никого не принимают, не дают интервью, другие, как говорят, Ольбрыхский, например, играя Гамлета, рассказывают анекдоты. А как поступаете вы? Если сегодня вечером спектакль, состоялось бы это интервью?
— Все зависит от роли. Если бы вечером был «Гамлет» или «Федра», интервью бы не состоялось, и к телефону я бы не подходила, и не обедала. Потому что классика требует аскетичности. И надо входить в эту роль «очищенной». Для других ролей мне, наоборот, надо больше уставать. И я часто это даже намеренно делаю. Вот Эльмира в «Тартюфе» — тут я стараюсь уставать перед спектаклем, чтобы на сцене у меня не было собственного «режиссерского» самоконтроля. И у других актеров, мне кажется, все зависит от роли. Астангов, например, перед ответственным монологом, как говорят, опускал руки в горячую воду. Щукин, когда играл Егора Булычева, перед выходом слушал пластинку Шаляпина: «Уймитесь, волнения страсти…» И на этом «раскрепощенном» шаляпинском регистре выходил: «Шурок, Шурок, душно жить в этом мире…» Папазян, как говорили, играя Отелло, взвинчивал себя за кулисами — ходил, как тигр в клетке, и шептал: «Говорят, Папазян — плохой актер! Это Папазян плохой актер?! Ну, я вам докажу, что Папазян та-а-кой ак-те-ер!!!» — и с этим врывался на сцену.
* * *
Наверное, у каждого актера есть свои секреты, как настраивать себя на игру. И есть, видимо, общие правила для всех.
Прикажите себе: я хочу почувствовать то-то и то-то! Ничего не выйдет. Этот волевой приказ не сработает. Но если этот приказ будет облачен в какой-нибудь осязаемый образ, результат окажется иным.
Так и перед спектаклем. Если я себе буду твердить: надо хорошо играть, я должна хорошо играть, я буду хорошо играть. Я только войду в нервное состояние, которое мне не поможет. Но если перед спектаклем «Гамлет», например, я увижу перед собой мрачные, каменные, серые, мокрые стены Эльсинора и в них затерявшуюся маленькую фигурку сына, который взвалил на свои плечи непосильный груз, то Гертруду мне будет играть уже легче. Перед спектаклем «Деревянные кони» я стараюсь приходить в театр в хорошем, добром настроении. Перед началом я сижу за кулисами, мирно болтаю с актерами, разгадываю сны реквизитора Верочки, проработавшей в театре около сорока лет, узнаю, как чувствуют себя дети у гримера Анечки, рассказываю про свою бабушку, которая прожила до девяноста лет и никому не делала зла. Она была старообрядка, а перед смертью сказала мне: «Я думаю, человек живет для того, чтобы встречаться с другим человеком… На года, на день, на минуты… Но это самое главное».
И я готовлю себя на встречу с людьми, со зрителями…
…По переделкинским улицам в поселке писателей гуляли две старухи. Одна с палкой, рука за спину, в телогрейке, длинный фартук, платок шерстяной, а под ним другой платок — белый. Вторая старуха более современная. Пальто, видимо, дочь «отказала». Из-под пальто юбки не видно. Тоже в платке, но повязанном как-то небрежно. Гуляли они не торопясь, по солнышку, в первой половине дня.