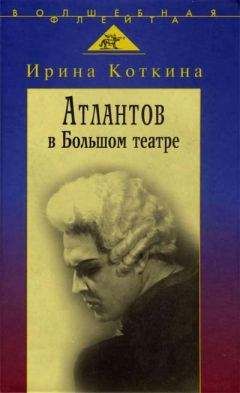Затасканная опера, освеженная талантом Лемешева, оказалась куда осмысленней и глубже, чем нас приучили думать представители бельканто, орущие во всю мощь воловьих связок о моральной безответственности своего героя, или отечественные соловьи, обласкивающие старые мелодии дивными трелями, но ни разу не затруднившие мозг заботой о смысле этих трелей.
И совсем другими красками рисовал Лемешев Альфреда в «Травиате», запетой не меньше, чем «Риголетто». Засалившийся от векового тенорового равнодушия и никогда не сыгранный всерьез, Альфред смирился с участью бледного спутника Виолетты. Талант и поразительная интуиция недавнего крестьянина и кавалериста вдруг наделили образ объемностью и глубиной самостоятельной жизни. Альфред обрел и отчетливую социальную окраску: он типичный отпрыск богатой буржуазной французской семьи, тянущейся к аристократии. Но все же не дотягивающейся, что Лемешев великолепно показывал в сцене мести Альфреда бросившей его любовнице и столкновения с бароном. Здесь в изящном Альфреде проявилось что-то нуворишское, что-то такое, что по светскому счету ставило барона выше его. И он сам это чувствует, но ничего не может поделать с собой. Альфред Лемешева спасается отчаянием и любовью — и спето, и сыграно это выше всяких похвал. Я не знаю, читал ли Лемешев Марселя Пруста, вряд ли, он слишком предан был русской классике, но его Альфред напоминает мне изящных прустовских героев, прежде всего самого Рассказчика, принадлежащего к той же социальной среде, что и Альфред Жермон, и вообще близкого ему по духу, обнаруженному Лемешевым в этой оперной марионетке. Но великая литература как бы наполняет собой атмосферу и проникает в людей непроизвольно — с дыханием; можно не открывать Пруста и все же обладать неким подсознательным представлением о его художественном мире.
Альфред первого действия — это юный парижский денди, старающийся казаться более искушенным, чем это есть на самом деле, даже несколько пресыщенным своим далеко не столь уж значительным опытом в «науке страсти нежной». В нравственном отношении это не то чтобы буржуазный герцог Мантуанский, но ему очень бы хотелось так выглядеть в глазах окружающих. Нежданно вместо очередной интрижки его охватывает настоящее, глубокое чувство, и не к чистой девушке, а к профессионалке любви. И та отвечает ему взаимностью. Любовь перерождает многоопытную душу Виолетты, смывает с Альфреда налет парижского лоска, возвращает к себе подлинному: доверчивому, милому провансальскому юноше, уже осознавшему ответственность за чужую судьбу. Задумчивая ария второго действия, исполненная неясности, благодарности любимой женщине и пробуждающейся молодой силы, способной отстоять любимую в жестоком и жадном мире, была так интонационно богата у Лемешева, что я никогда не замечал ее нищих слов. Остальные тенора, в меру отпущенного им таланта, лишь информировали слушателей о якобы свершившейся в них перемене, озабоченные одним: довести до нужной кондиции каждую ноту.
Я слушал «Травиату» не счесть сколько раз, и всякий раз поражался слиянности Лемешева с образом. Ему не надоедал его герой. В третьем действии, когда он появляется на балу, чтобы совершить свою жестокую и жалкую месть, он был как натянутая струна. Это все тот же юноша, наивный, любящий, добрый, но оскорбленный до глубины души и собравший все силы, чтобы сыграть беспощадную мужскую роль. С необыкновенным артистизмом, изяществом и тонкостью давал Лемешев проглянуть за всеми взрослыми поступками Альфреда милую мальчишескую нелепость этой жертвы точно и беспощадно знающего свои цели общества.
И наконец, последний Альфред — исстрадавшийся, все понявший, безмерно любящий, ставший настоящим человеком — да слишком поздно…
Я мог бы немало сказать о Лемешеве — Рудольфе, действительно нищем поэте, счастливом своим внутренним богатством, даром слагать песни. И как зазвучали банальные, безнадежно стершиеся слова у бывшего деревенского мальчика, поэтичного и звонкоголосого, которому легко было ощутить себя певучим бедняком другой страны, обитателем мансарды, по-нашему — чердака, полюбившим милую девушку, швею с замерзшими руками. И о юном английском офицерике Джеральде, пришедшем с оружием в чужую страну без малейшего сознания своей вины, потому что так был он воспитан в аристократическом английском доме и в аристократическом военном училище. При своей социальной слепоте Джеральд добр и доверчив, а встреча с туземной девушкой Лакме производит переворот в его душе, чему не препятствует, а помогает страшная рана, нанесенная ему отцом Лакме — мстителем Нилакантой. Через Лакме Джеральд сроднился с природой чужой страны, начал постигать достоинство и правду населяющего ее народа, но окончательного прозрения все же не произошло — слишком тяжек был груз прошлого, воспитания, старых привязанностей. Так наполнился у Лемешева человеческим содержанием считавшийся весьма бедным образ.
Я нарочно брал или запетые, или малозначительные, по общему мнению, партии, чтобы подчеркнуть удивительную способность Лемешева наделять трепетной жизнью оперные фигуры. Но сейчас мне хочется обратиться к образу, который стал выдающимся событием в жизни русской оперы, да и мировой, как утверждает знаменитый шведский тенор Николай Гедда. Речь идет, разумеется, о Владимире Ленском, которого Лемешев спел впервые на сцене Театра-студии имени Станиславского под руководством великого режиссера и которым завершил блистательную карьеру на сцене Большого театра.
В своей талантливой и очень искренней мемуарной книге Наталия Сац посвящает интересную главу Лемешеву. Она пишет о том предвзятом отношении, какое у нее было к оперному кумиру, залюбленному до неприличия неистовствующей публикой. Слащавый шум восхищения действовал на Наталию Ильиничну раздражающе, и ее не тянуло знакомиться с Лемешевым, даже с Лемешевым-певцом.
Но когда сын Адриан захотел послушать «Евгения Онегина» — а Ленского в тот вечер пел Лемешев, — она рискнула. Дело в том, что Наталии Сац посчастливилось видеть на сцене Большого театра Ленского — Собинова, и ей казалось, что она никогда не примет никакого другого исполнителя, настолько благороден, поэтичен, аристократичен во всех смыслах был образ, созданный великим русским певцом.
Но с первого появления Лемешева — Ленского Наталия Сац ухватила своим наметаннейшим театральным глазом, что ей будет предложено совсем иное прочтение знакомого образа, делающее излишним сравнения и сопоставления. Она увидела не молодого аристократа, перенесшего в сельскую глушь геттингенскую утонченность и поэтическую меланхолию. Нет, это был открытый русский юноша, с хорошими, свободно-сдержанными манерами; в родном усадебном березовом привычье росными хрустальными зорями с него смыло иноземную, чуть натужную изысканность, осталась истинная суть — наивная, простодушная, поэтическая, не потому, что он кропал стихи «темно и вяло» в модном романтическом духе, а потому, что сам был поэзией — безоглядно влюбленный в пустенькую Ольгу, восторженно гордящийся дружбой с петербургским львом Онегиным, доверчивый, нежный, ранимый и… обреченный. Сац увидела все это, услышала чарующий молодой голос, исполненный не только красоты, но и правды, и отдала ему свое неподкупное в искусстве сердце. У меня создалось впечатление, что этот юноша-поэт из глубины русского пейзажа оказался ей ближе канонизированного, с байроническим ореолом героя. Но может быть, я заблуждаюсь, и в просторной душе Наталии Сац нашлось место и для того, и для другого Ленского.
А оставшийся с давних пор ледок быстро, почти мгновенно растаял, когда значительно позже в санатории «Подмосковье» она познакомилась с Лемешевым и увидела «антитенора» — скромного до застенчивости, простого, радостно открытого людям. «Нет такого венка, нет таких слов, даже и музыки такой, которая могла бы передать его очарование», — писала Наталия Сац уже после смерти Сергея Яковлевича Лемешева.
По-моему, Ленский Лемешева ближе к литературной первооснове, нежели Ленский-аристократ; Пушкину ни к чему был сельский дубликат Онегина, и он относится к своему поэту с чуть приметной иронией. Вспомните, ведь Пушкину не нравятся стихи, которыми Ленский прощается с любимой и жизнью. У Чайковского этот момент снят, я имею в виду музыкальное решение арии «Куда, куда», — композитор начисто отмел пушкинское «темно и вяло». Но некая легчайшая провинциальность, жалкость, что ли, Ленского рядом с матерым Онегиным сохранена Чайковским в конструкции образа, это особенно заметно в сцене бала у Лариных, где Ленский так юношески трогателен в своем «грозном» мужском поведении. Ленский — не из романтического тумана европейского дендизма, он из старых русских садов, темных липовых аллей, кипящей по весне черемухи.
Ленским Лемешев дебютировал в Большом театре, Ленским же прощался со сценой. Он еще будет давать концерты, выступать по радио и телевидению, сыграет Берендея в сказке Островского, но черный фрак Ленского, его бобровую шапку не наденет больше никогда…