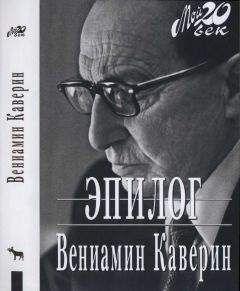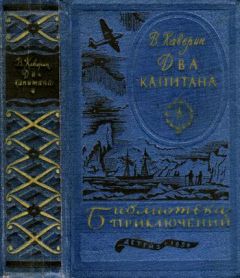Юрий нехотя познакомил его с Виктором. Через пять минут этот Вася К. был, как теперь принято выражаться, «в курсе дела». Тем поразительнее показалось мне, что в доме, который был проникнут не высказанным, но всеми нами остро подразумеваемым желанием спасти Виктора от ареста, этот вежливый, красивый, хорошо воспитанный человек заговорил (хотя и с оттенком осторожности) о своих торговых расчетах. ОПОЯЗ выпускал сборники, которые немедленно раскупались, и К., упомянув об этом, неловко воспользовался словом «благополучие».
— Все мое благополучие заключается в этой чашке чая, — с опасно разгладившимся от бешенства лицом рявкнул Виктор.
Улыбка застыла на побледневшем лице Васи К. Он что-то пролепетал, и разговор прекратился. И даже не прекратился, а перешел в преднамеренно затянувшуюся паузу, которую нельзя было понять иначе, как наше обшее желание, чтобы Вася К. немедленно удалился. Он понял. Протянуть руку Виктору он не решился.
Когда дверь закрылась, Юрий сказал о нем два слова, которые я, к сожалению, забыл. Но запомнилось впечатление, что они в полной мере исчерпали психологическую сущность Васи.
Я сказал, что Шкловский был в этот вечер почти таким, как всегда. Таким, да и не таким! Впервые я видел его в «деле» — это военное выражение вполне подходит к тому состоянию, в котором он находился. Бежать. Но куда? И как?
Скрыться немедленно, засесть где-нибудь в потайном месте, в подполье, он не намеревался. Надо было подготовить побег, а это требовало открытого присутствия в городе, причем не только ночью, но и днем. Впрочем, подобный ошеломляющий образ действий был в тот вечер, кажется, еще не ясен ему.
Мы условились: если оконная занавеска в тыняновской спальне завязана узлом — все благополучно, можно зайти. Если нет — засада. Нужно было переодеться, и он ушел в моем осеннем пальто и чьей-то шапке, кажется Льва Николаевича. Простились, как всегда, просто пожали друг другу руки. Все волновались. Но происходившее, которое попахивало смертельной опасностью, было значительнее любой аффектации, любого лишнего жеста.
На другой день я, как всегда, пошел в Институт восточных языков, но занимался плохо, хотя давно ждал перевода и толкования вдохновившей Пушкина суры Корана. Мне было не до Корана. Я ушел, не дождавшись Бартольда, хотя никогда не пропускал его лекций.
Возвращаясь по Невскому, я зашел к Мише Слонимскому в Дом искусств и нашел его похудевшим, помрачневшим. Он уже знал, что Виктора ищут. Мы поговорили о возможности побега, но он только рукой махнул.
— Схватят. Не сегодня, так завтра.
Мы вышли, он должен был зайти в типографию, где-то на Песках. Там печатался наш альманах «Серапионовы братья».
Вероятно, агент шел за нами от Дома искусств и видел, как, остановившись у ворот на Греческом, я показал Слонимскому, где квартира Тыняновых, — он давно собирался заглянуть к Юрию. Завязанная узлом занавеска была хорошо видна с улицы. Мише я о ней не сказал. Мы простились.
Лев Николаевич и Юрий были на работе, Лена хозяйничала, Лидочка занималась, а с Инночкой играл мой друг с гимназических лет Толя Р., левый эсер, успевший за два года посидеть и в Бутырках, и на Гороховой, 2, и лишь недавно, по ходатайству Юрия, выпущенный на волю. Прошло минут десять, прозвенел колокольчик над кухонной дверью, и вошел незнакомый, плотный, среднего роста человек, опрятный, с обыкновенной внешностью, однако чем-то напомнивший мне того сыщика-альбиноса, который при белых обыскивал квартиру Гординых в Пскове. Из кухни он почти пробежал в коридор, заглянул в столовую, потом, вернувшись, — в спальню, ничего не ответив на вопросительные взгляды Лены. Он показал ей свою карточку, но и без карточки яснее ясного было, кто он такой и с какой целью явился.
— Документы, — спокойно сказал он Толе и мне.
Лена с неосторожной поспешностью стала развязывать занавеску. Он остановил ее.
— Оставьте как было.
Я показал свою трудовую книжку, а Толя, к моему удивлению, билет члена партии левых эсеров.
— Вам известно, что легальная деятельность нашей партии разрешена? — спросил он.
Чекист молча усмехнулся, вернул билет. Без сомнения, он прекрасно знал, что эта легальная деятельность была снова запрещена, тому назад с полгода.
Он предупредил Лену, что все приходящие в квартиру будут задержаны, а когда Лена спросила: «Надолго?» — ответил: «Смотря по обстоятельствам».
Телефон у Тыняновых тогда еще не работал, и, выяснив это, чекист куда-то ушел — ненадолго, минут на десять, внушительно запретив нам выходить из квартиры. Потом вернулся, и началось ожиданье. Он ходил по кухне, поглядывал в окно и курил, не обращая внимания на нас. Я думал, что начнется обыск. Нет. Ни обитатели квартиры, ни случайно подвернувшийся левый эсер не интересовали его. Кстати, я спросил Толю, почему он показал свой билет, и он ответил сдержанно:
— Так лучше. Меня знают.
Напряжение первых минут засады прошло, захотелось есть. Полчаса назад это желание показалось бы странным. Мы пообедали. Заходить в кухню не хотелось, но мы заходили. Чекист сидел у окна, курил, зажигая одну папиросу от другой. Я почему-то старался показать ему, что мы ничуть не встревожены. Это был страх. Спокойнее всех держался Толя. Бутырки и Гороховая не прошли для него даром.
3
День был уже в разгаре, шел третий час, когда чекист, потеряв терпение, снова побежал звонить по телефону. Случилось, что как раз в эту минуту Лена, относившая на кухню грязную посуду, увидела через окно, что к нам идет Давид Выгодский, известный испанист, историк литературы и переводчик, тот самый, о котором Мандельштам написал:
Как закорючка азбуки еврейской… —
с необычайной точностью изобразив внешность этого доброго, умного, но, может быть, не очень смелого человека. Смелой и сметливой показала себя как раз Лена: осторожно, бесшумно приоткрыв дверь, она дождалась, когда Выгодский показался на лестнице и махнула ему рукой. Очевидно, жест был достаточно выразительный: испанист немедленно повернулся, спустился вниз на цыпочках и исчез.
После этой счастливой случайности можно было, кажется, не опасаться, что Виктор попадет в засаду. Выгодский мог предупредить не только его, но и всех друзей Юрия — и в литературных кругах, и в Коминтерне, где Юрий служил переводчиком французского отдела. Почему он этого не сделал, осталось загадкой.
Наконец чекиста сменили двое других. Он был сдержанновежлив. Эти сразу стали вести себя как хозяева квартиры. Проверив надежность закрытого и заваленного старой мебелью парадного хода, они притащили из комнаты Льва Николаевича кресла, уселись и стали, ссорясь, обсуждать какое-то несправедливое, по их мнению, назначение. В Чека уже были должности и награды, и какой-то Лешка Свиридов, ничем не отличавшийся от них, несправедливо получил более высокую должность или награду. У них были свои огорчения и заботы, своя жизнь, и меня поразила разнонаправленность этих забот в сравнении с теми, которые тревожили нас. Они, ругая Лешку Свиридова, почти машинально занимались своим делом, заключавшимся в аресте имярека, досадуя лишь на то, что это нельзя сделать немедленно, а мы остро, болезненно волновались, думая о том, что пройдет еще час или два и друг, занявший в нашей жизни такое неоценимое место, будет схвачен на наших глазах.