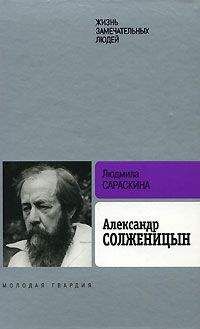Нынешнему столетию предстоит заново открыть тайный смысл уроков минувшего века, а значит — разглядеть и понять знаки судьбы Солженицына.
Тяжкий труд познания только начинается.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КООРДИНАТЫ СУДЬБЫ
Глава 1. Контуры и корни. Род Солженицыных
Если бы Солженицыну пришлось описывать жизнь Пушкина (а зерно такого нечаянного замысла ярко присутствует в полемически-дуэльной статье 1984 года «…Колеблет твой треножник»), он бы не сомневался в подходах и принципах. Чтó движет жизнеописателем — уважение к имени, освящённом славою (по Пушкину, это первый признак просвещенного ума), или стремление отделаться от пиетета перед гением и пуститься в развенчание его «культа»? С каким ведущим чувством следует говорить о поэте — взрастив в своем сердце любовь или принеся её в жертву политкорректности, выверенному балансу плюсов и минусов? Как дóлжно показывать предмет — в его человеческой пропорциональности или в карикатуре, пародии, анекдоте (так легче препарировать)? Куда устремлён поиск — к светлой сердцевине личности или к её теневым, изнаночным, порченым краям? Зачем биограф пускается в путь — ради отыскания истины или для самоутверждения (и тогда нужны сильнодействующие средства, острые специи)?
Выбор Солженицына был бы, несомненно, в пользу первого ответа из каждой пары.
Таков выбор и нашей книги.
Там нет истины, где нет любви — этой христианской максимой решается вечный спор между «биографами-апологетами» и «биографами-судьями». Боязнь жизнеописателя впасть в «апологетику» (если только такие опасения не имеют специальных причин и служебных целей) понятна и уважительна: роль клакера, мобилизованного прославлять и превозносить кого-либо, и в самом деле несимпатична и малопочтенна.
Но апологетика без кавычек, в прямом, изначальном смысле греческого термина απολογία — это заступничество, взятое по совести обязательство оправдать свой предмет в глазах истории, защитить его перед несправедливым судом общества, очистить от клеветнических нападок и ложных обвинений.
В этом и только в этом смысле статья Солженицына о Пушкине апологетична. Высокое и чистое суждение о поэте противопоставлено — в «нашем нынешнем одичании», — суждению низкому, мусорному, с грязнотцой, сальностью и хамством; слово прямое, откровенное — слову с ужимкой, подмигиванием и ехидной гримасой, критика честная — критике язвительной, глумливой и кривляющейся. Такой критике, которая демонстративно не хочет (или всё же не может?) видеть высшие уровни гения, которая упорно не замечает отсвет божественной гармонии, владеющей поэтом.
Солженицын разгадывает старый прием вивисекции, нехитрую уловку: рассечь поэта на гения и человека, гения выпустить из храма через купол, а в опустевшем храме — да хоть и нагадить. Он видит эту страсть критика-нигилиста работать на снижение, чувствует его нервную дрожь — развалить именно то, что в литературе высоко и чисто: «Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, она силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты».
Солженицын-критик исповедует иную веру: сантиметр за сантиметром исследуя личность поэта, подвергая её самому дотошному и пытливому анализу — не упускать объём, масштаб, исключительность: «Как во всяком человеке, всё едино, органично и в гении: его жизненное поведение, светлые и тёмные стороны, краски и тени личности, его мысли и взгляды, его художественные достижения и провалы, — и притом во всякую минуту пребывание самим собою. Гениальность — не влитая отдельная жидкость. Судить по разъятым частям — обречь себя не понять сути. Но, конечно, понять явление целостно — несравнимо трудней».
Наша книга стремится следовать именно этим путем, полагая, что он соразмерен и соответствен предмету.
Американец Майкл Скемел, автор англоязычной биографии Солженицына (1984), признался в недавнем интервью российской телекомпании: «Для биографа самое интересное — сравнить разные версии жизни писателя и в конце концов стать для него кем-то вроде судьи. И это писателю Солженицыну — как и любому другому — очень неприятно. Солженицын хочет оставаться единоличным, гордым владельцем своего мира. Он действительно великий писатель, а для многих ещё и святой, и даже бог. А кто может спорить с богом, навязывать ему свои советы и оценки — неужели какой-то биограф?»
Здесь много путаницы. У Бога не бывает биографии. И не Бог поставил биографа быть судьей над человеком, о котором он пишет. «А ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4: 12).
Биограф — не судья и не прокурор, а историк и летописец, свидетель и собиратель, изыскатель и следопыт. Он не хозяин жизни своего героя, не наследник его мира, а лишь усердный, смиренный работник.
Известно, что мифы завладевают образами тех людей, чьё значение перерастает обычные размеры. Масштаб беспрецедентной для ХХ века писательской и человеческой известности Солженицына адекватен объёму мифологии, связанной с его именем и различной по своим целям.
Наша книга, в отличие от мифологических экспериментов или судебно-процессуальных опытов, имеет историко-документальные цели, а значит, ей не подходят ни розовые очки, ни кривые зеркала, ни судейская мантия.
Но встаёт вопрос — как, через какую оптику смотреть, и главное — чтó хотеть увидеть?
Снова обратимся к опыту Солженицына. Самое высокое достижение Пушкина он видит в непревзойдённой способности поэта (увы — исчезающей из нашей литературы) «всё сказать, всё показываемое видеть, осветляя его. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, — и читатель возвышается до ощущения того, чтó глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств... Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением».
Осветлять предмет высшим пониманием, а не пятнать его низменными искажениями — вот он, искомый принцип работы биографа.
И ещё одно замечание Солженицына в адрес критика-пушкиниста: «Уж литературоведу надо бы уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять».
Замечание, от которого невозможно отмахнуться при обращении к биографии самого Солженицына. Контуры, «к которым он рос и тянулся» — это историческая реальность эпохи и запечатленный в ней человек, чью жизнь надо восстановить в полном объёме. Писатель сознает двойственность своего статуса художника и историка, и нащупывает пути — как, оставаясь художником, не нарушить исторической правды. «Я даже думаю, — пишет он, — что в условиях, когда так похоронено наше прошлое и затоптано, у художника больше возможностей, чем у историка, восстановить истину».