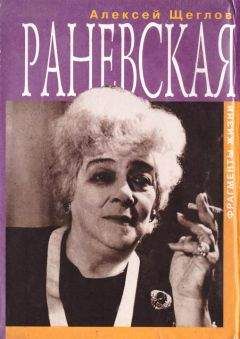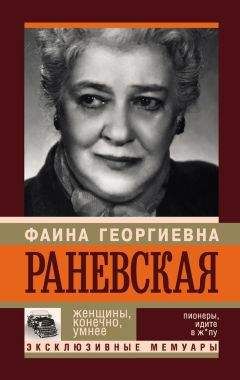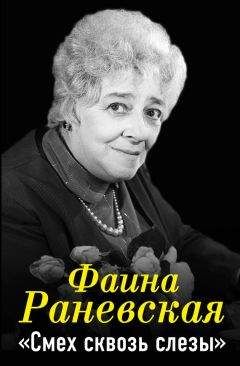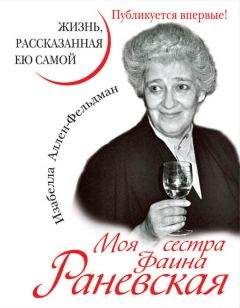Гельцер говорила: «Я одному господину хочу поставить точки над „i“». — Я спросила, что это значит? — «Ударить по лицу Москвина за Тарасову».
Раневская жадно слушала рассказы Гельцер о «перефилии» (так она именовала провинцию), о сцене, о нравах актеров, о своей неразделенной любви:
«Первая моя перефилия — Калуга. Мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе, вы мать, три дочери, одна немая, и поэтому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов».
«Книппер — ролистка, она играет роли, ей опасно доверять».
«Наша компания, это даже не компания, это банда».
«По женской линии у меня фэномэнальная неудача».
«Кто у меня бывает из авиации, из железнодорожников! Я бы, например, с удовольствием влюбилась в астронома… Можете ли вы мне сказать, Фанни, что вы были влюблены в звездочета или в архитектора, который создал Василия Блаженного?.. Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»
«Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга».
«Я обожала Гельцер, — вспоминала Раневская. — Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, и даже чему-то детскому, очевидно присуще гению.
Она ввела меня в круг ее друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда было принято ездить к Балиеву в „Летучую мышь“. Возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане.
Гельцер показала мне всю Москву тех лет».
Это были «Мои университеты».
Раневская жила в то время в крохотной комнатке на Большой Никитской, ничуть не тяготясь убогой каморки «лакейской», которая ей досталась; ее увлекла меняющаяся, неизвестная ей до той поры Москва. Расцветающий модерн, Шаляпин, театры, ариетки Вертинского, его бледный Пьеро, немой кинематограф — ровесник Фаины, красота Веры Холодной — незабываемой «примы» немого экрана, встречи с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским. И ни слова о войне — Раневская будто не замечает ее.
«В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цветаевой. Марина, чёлка. Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала».
Раневская рассказывала, что Цветаеву волновали тогда необыкновенно склянки из-под духов, она видела в них красоту, разнообразие и совершенство форм:
«Марина просила: „Принесите от Гельцер пустые бутылочки от духов“. Я приносила. Марина сцарапывала этикетки, говорила: „А теперь бутылочка ушла в вечность“. Бедная моя Марина… ни на кого не похожая…»
Стеклянные миниатюры, прозрачные формы, освобожденные цветаевской рукой, — это мимолетное воспоминание я часто слышал от Раневской.
Тогда, в театре Зимина, Раневская впервые услышала Федора Ивановича Шаляпина, и… этого голоса ей не хватало потом всю жизнь:
«Я помню еще: шиншилла — мех редкостной мягкости — нежно серый, помню, как Шаляпин вышел петь в опере Серова „Вражья сила“, долго смотрел в зрительный зал, а потом ушел к себе в гримерную, не мог забыть вечера, когда встал на колени перед царской ложей, великий Шаляпин — Бог Шаляпин не вынес травли. Я помню, как вбежал на сцену администратор со словами: „По внезапной болезни Федора Ивановича спектакль не состоится, деньги за купленные билеты можно получить тогда-то“. Я сидела в первом ряду в театре Зимина, где гастролировал Шаляпин, я видела движение его губ „не могу“ — Шаляпин не мог петь от волнения, подавленности, смятения».
«Первым учителем был Художественный театр. В те годы первой мировой войны жила я в Москве и смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время, Станиславского в Крутицком вижу и буду видеть перед собой до конца дней. Это было непостижимое что-то. Вижу его руки, спину, вижу глаза чудные — это преследует меня несколько десятилетий. Не забыть Массалитинова, Леонидова, Качалова, не забыть ничего… Впервые в Художественном театре смотрю „Вишневый Сад“. Станиславский — Гаев, Лопахин — Массалитинов, Аня — молоденькая прелестная Жданова, Книппер — Раневская, Шарлотта?.. Фирс?.. Очнулась, когда капельдинер сказал: „Барышня, пора уходить!“ Я ответила: „Куда же я теперь пойду?“»
Раневская вспоминала свою единственную встречу со Станиславским:
«Шла по Леонтьевскому — было это в году 15-м, может быть, 16-м. Услышала „бабрегись“ — кричал извозчик, их звали тогда „Ванька“. Я отскочила от пролетки, где сидел Он, мой Бог Станиславский, растерялась, запрыгала и закричала: „Мальчик мой дорогой!“ Он захохотал, а я все бежала и кричала: „Мальчик мой дорогой!“ Он встал спиной к извозчику, смотрел на меня добрыми глазами, смеялся».
«Каждый свободный вечер — в театре. Моя унылая носатая физиономия всовывалась в окошечко какого-то театрального администратора, и я печальным контральто произносила, заглядывая в металлические глаза: „Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре“. Действовало безотказно. Правда, при попытке пройти в один театр вторично администратор мне посоветовал дважды не появляться: „Вы со своим лицом запоминаетесь“.
„Тогда еще в моде были обмороки, и я этим широко пользовалась. Один из обмороков принес мне счастье большое и долгое. В тот день я шла по Столешниковому переулку, разглядывала витрины роскошных магазинов и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения, собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя, поджидала у ворот его дома. Услышав его голос, упала в обморок неудачно, расшиблась очень. Меня приволокли в кондитерскую рядом — она и теперь существует на том же месте, а тогда она принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя и тут же снова упала в обморок, лежа на диване, когда голос этот прозвучал вновь, справляясь о том, не очень ли я расшиблась“. Это была первая встреча Раневской с Василием Ивановичем Качаловым — тогда еще молодым актером МХАТа».
«Гора пирожных в кафе Сиу; к столу подсел Мандельштам, заказал шоколад в чашке, съел торт, пирожные; сняв котелок, поклонился и ушел, предоставив возможность расплатиться за него Екатерине Васильевне Гельцер, с которой не был знаком. Мы хохотали после его ухода. Уходил торжественно подняв голову и задрав маленький нос. Все это было неожиданно, подсел он к нашему столику без приглашения. Это было очень смешно. Я тогда же подумала, что он гениальная личность. Когда же я узнала его стихи — поняла, что не ошиблась».