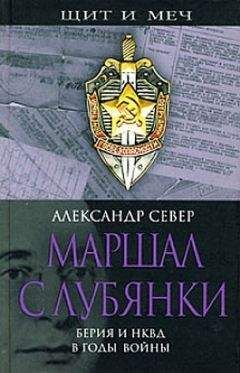Наконец, я был доставлен в кабинет следователя. Начало встречи со следователем носило мирный характер. Пригласив сесть, он меня спросил, как я доехал до Москвы, как себя чувствую, не применяли ли в Алма-Ате на допросах физических методов. Это было чистым ханжеством, и я на все заданные вопросы ответил весьма лаконично. После такого вступления следователь, раскрыв объемисто дело, начал перечислять все мои смертные грехи, совершенные против Советской власти, начиная с государственной измены, подготовки к восстанию и т. д.
— Но так как вы не отдохнули еще с дороги и не обдумали всю тяжесть содеянного вами преступления, — сказал следователь, — вам необходимо еще пару дней отдохнуть и подумать, так как все ваши однодельцы давно уже признались во всем. Идите, отдохните.
Я вернулся в камеру. Несколько дней спустя я был снова доставлен в кабинет следователя лейтенанта Иванова. Обратившись ко мне по имени и отчеству, следователь сказал:
— Начнем писать.
— О чем?
— О контрреволюционной организации, в которой вы состояли, и о других ее участниках.
— Такой организации не было.
— Учтите, — строго сказал следователь, — здесь вам не Алма-Ата.
— Учитываю.
— Елуферьев подтверждает ваше участие в контрреволюционной организации.
— Пусть Елуферьев подтвердит показания на очной ставке со мной.
— А если он подтвердит на очной ставке, вы все расскажете? — спрашивает следователь.
— Но никакой ведь организации не было, — ответил я. — А Елуферьев, возможно, помешался и говорит всякую несуразицу.
С Сергеем Михайловичем Елуферьевым я познакомился в 1934 году, когда он прибыл в Алма-Ату вместе с П.Г. Москатовым и работал заместителем председателя комитета партийного контроля ЦК по Казахстану.
Елуферьев, в прошлом тульский рабочий, железнодорожник. Отец, братья его — все железнодорожники. В 1935 году, после отъезда товарища Москатова в Москву, Елуферьев был назначен вместо него председателем этого комитета.
В марте 1938 года я был в Москве в командировке. Жил в гостинице «Селект», что на Малой Лубянке. 8 марта вечером меня подозвали к телефону. Говорил Елуферьев. Он сообщал, что его отозвали в Москву в ЦК, приехал сюда с семьей, просил меня зайти к нему домой на Петровку. Утром на мой звонок из квартиры вышла жена Елуферьева, вся в слезах. Она сказала, что ночью арестовали Сережу. Страшно потрясенный, я все же успокоил ее, сказав, что разберутся, и ушел. Накануне 1 мая я встретил работника НКВД из Куйбышева, некоего Строилова, который сообщил мне, что он доставил под конвоем в Москву на Лубянку секретаря ЦК КПБ Казахстана Левона Исаевича Мирзояна, жену его Тевосян и двух детей. Мирзоян ехал по вызову ЦК в служебном вагоне, ничего не подозревая. В Куйбышеве в вагоне вошли работники НКВД, предъявили ему ордер на арест его и жены, доставили их на Лубянку. Детей отдали И.Ф.Тевосяну, брату жены Тевосяна. Интересно отметить, что примерно за месяц до ареста Мирзояна в Алма-Ате состоялся пленум или партийная конференция, где была зачитана телеграмма от Сталина с высокой оценкой деятельности Мирзояна.
Мирзоян и его жена погибли, а т. Елуферьев после реабилитации умер в Москве. Об этом мне сказал тов. Москатов, которого я встретил в 1956 году.
Итак, я снова на допросе.
— В каких отношениях вы были с Москатовым и когда с ним познакомились?
— Москатова я знаю с 1926 года, когда он работал секретарем Таганрогского окружного комитета партии. Затем встречался с ним в Алма-Ате, где он был уполномоченным комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б) по Казахстану.
— Какие антисоветские разговоры вы вели с ним? — спрашивает следователь Иванов.
Я посмотрел на этого наглеца, который ради своей карьеры готов был посадить всех членов ЦК и всю партию, и ответил:
— Я знал Москатова как бывшего рабочего-электрика, как партизана, воспитанного партией, как кандидата в члены ЦК и ничего плохого не могу о нем сказать.
— Так, значит, не скажешь? — угрожающе спросил Иванов.
— Не о чем говорить, — ответил я.
Тогда он, порывшись в каком-то деле, перелистал несколько страниц и показал мне три строчки, напечатанные на машинке, якобы из показаний Залина — наркомвнутдела Казахстана: «Я имел в виду завербовать в организацию начальника уголовного розыска Казахстана Дворкина, как энергичного работника». И все. Эти сфабрикованные строчки были новой неудавшейся психической атакой.
— Вот Залин, — продолжает говорить следователь, — также держался героем, вроде тебя, а у нас стал миленьким — все рассказал. Хочешь, приведу его сейчас? И он подтвердит свои показания.
— Пусть приведут, — ответил я.
— Ладно, завтра с тобой будет разговаривать начальник следственной части НКВД СССР ст. майор Володзимирский.
Вечером того же дня меня снова привели к лейтенанту Иванову. Я сидел на стуле у входа в кабинет и думал о предстоящем разговоре с Володзимирским. Ко мне подошел сотрудник с довольно наглой физиономией, в гимнастерке с красными петлицами, но без знаков различия. Неистовым, истошным голосом, переходящим в визг, он крикнул мне в лицо:
— Встать, почему не встаешь?
Я спокойно ответил:
— А я не знаю, кто вы такой.
— Сейчас пойдешь со мной к старшему майору Володзимирскому, он тебя поучит, ему все расскажешь.
Я молчал. Через несколько минут он повел меня по длинному коридору. У двойных обитых дверей остановил меня, открыл их, и я вошел в кабинет Володзимирского.
За большим тяжелым письменным столом сидел упитанный, самодовольный, средних лет человек, с большой шевелюрой темных с проседью волос, зачесанных назад. На столе навалом лежала куча следственных дел. Впереди стола стояли два глубоких кресла, слева большой кожаный диван. На нем сидели трое сотрудников, в руке одного из них была четырехгранная резина, сантиметров 40–50 длиной. На полу большие, пушистые ковры. Передаю почти точный диалог между мною и Володзимир ским.
— Садитесь, — сказал Володзимирский и начал рыться в куче дел, наваленных на столе. Вытащив одно очень объемистое дело, повернувшись ко мне, сказал:
— В этом деле имеется 48 показаний о вашем активном участии в контрреволюционной организации. Вот уже 7 месяцев, как вы арестованы и не даете никаких показаний ни о себе, ни о ваших однодельцах.
Имейте в виду, — подчеркнуто сказал он, — у нас нет не сознавшихся.
Не будете говорить, отправим в Лефортово, а там скажете.
— Я ничего не могу сказать, — ответил я, — т. к. я ни в какой контрреволюционной организации не участвовал. А для того, чтобы со мною не возиться и не возить в Лефортово, давайте я лягу вот на этот диван, и пусть меня засекут этой резиной насмерть.