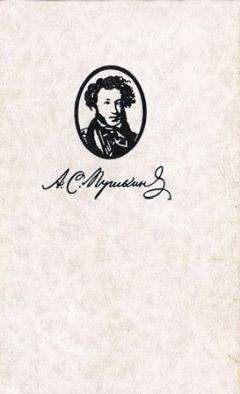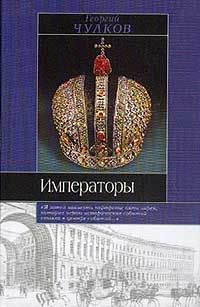Ознакомительная версия.
В этом стихотворении он снова в поэтическом «мы» объединил себя со своим кумиром, которого, однако, всегда воспринимал однозначно — в координатах декадентства. Чулков так никогда до конца и не понял ни блоковской эволюции, ни направления блоковского пути.
Надо тем не менее особо подчеркнуть, что при несомненной зависимости от Блока, идейной и творческой в том числе (тождество лексики, близость мотивов, сходная ритмика стиха), Чулков сохранял и определенную самостоятельность. Так, он оказался, пожалуй, одним из самых серьезных и принципиальных оппонентов Блока в дискуссии о «народе и интеллигенции». В этой знаменитой полемике голос Чулкова прозвучал, может быть, негромко, но очень достойно. В статье «Memento mori» (1908) он с позиции «универсализма» доказывал поэту, что его взгляд на интеллигенцию излишне пессимистичен. Эту же мысль Чулков попытался развить и в статье «Лицом к лицу» (1909), утверждая, что Блок понимает интеллигенцию узко, причисляя к ней или отвернувшихся от народа декадентов, или привилегированную часть дворянства. Вся полемика с Блоком происходила у Чулкова под знаком «освобождения» поэта от «декадентского дурмана», который, как мерещилось критику, не давал художнику найти путь к «оправданию земли и сораспятью с миром».[11] А именно так понимал Чулков истинный символизм, тот, который «кладет свою печать на всемирную литературу всех веков, определяя собой тип поэта, его путь, его стремление».[12]
Вообще, надо отметить уровень благородства этой полемики, в которой не нашлось места отражению реальных жизненных конфликтов. А ведь она происходила вскоре после событий, ознаменованных пьянящей влюбленностью Блока в «снежную маску» — актрису Н. Волохову и «романом» Л. Блок и Г. Чулкова. Если верить Л. Д. Блок, в ее взаимоотношениях с Чулковым не было никакой глубины. В воспоминаниях «Были и небылицы о Блоке и обо мне» Любовь Дмитриевна так охарактеризовала эту свою «первую фантастическую „измену“» в общепринятом смысле слова: «Мой партнер этой зимы… наверное, вспоминает с не меньшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена a la Dostoievsky. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением пережидала, когда мы проспимся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: „бег саней“, „медвежья полость“, „догоревшие хрустали“… и легкость, легкость, легкость».[13]
Позволим себе, однако, усомниться в верности интерпретации, которую предложила Любовь Дмитриевна. Легковесной ситуация, скорее всего, представлялась ей. Чулков воспринял все иначе и, воспроизводя случившееся в повести «Слепые», подчеркнул не легкость и необязательность затеянной любовной интриги, а напротив, эгоистическую слепоту безрелигиозных людей, подталкивающую их к безумным и бессмысленным поступкам. Можно, конечно, заподозрить автора в желании придать особую значительность всему происшедшему. Но то, что случившееся было для него отнюдь не игрой, — не подлежит сомнению. В повести бросается в глаза «мертвенность» персонажей, пытающихся взбодрить угасающий интерес к жизни острыми ощущениями и экстравагантными переживаниями, — то, что принято называть декадентством. И образ графа Бешметьева, в котором отразились блоковские черты, лишен привлекательности, как, впрочем, и образ Герта в рассказе «Парадиз». В этом рассказе встреча «молодого человека лет двадцати восьми, небезызвестного поэта, с бритым лицом и вьющимися белокурыми волосами» с обитательницей определенного заведения под названием «Парадиз» кончается для нее трагически по его вине.
Но, может быть, еще более удачно Чулков сумел воплотить противоречивость Блока и свое восприятие его двойственности в стихотворении цикла «Месяц на ущербе» (1907):
И вновь ты уходишь во мрак,
Сияя мечтой золотистой,
И мраком венчается брак
Невинный, святой и пречистый.
И твой поцелуй на устах
Как ядом уста опаляет.
И мимо проходит монах,
И молча, и строго кивает.
И бледный монах мне знаком:
Мы вместе плели наши сети:
Любили, влюблялись вдвоем,
Смеялись над нами и дети.
Потом уходил он на мост
Искать незнакомки вечерней:
И был он безумен и прост
За красным стаканом в таверне.
История сложных взаимоотношений с Блоком как бы убеждает, что свои воспоминания о нем Чулков непременно должен бы завершить сценой их последней встречи, одарившей его счастьем полного взаимопонимания. О ней он рассказал сразу же после смерти поэта. «В последний раз, когда Александр Александрович был в Москве, мы успели поговорить, и он был откровенен, как прежде, как в те годы, когда мы были друг другу нужны. Я сказал, между прочим: „Не верится как-то, что в наше катастрофическое время могут какие-то люди чувствовать привязанность к земле, к любви… Вы в это верите?“ И он мне ответил, даже не улыбаясь: „Credo! Quia absurdum“.[14] Но в „Годах странствий“ Чулков опустил эту подробность, как бы не желая лишний раз напоминать о нитях, навсегда связавших его с Блоком.
Так же скуп оказался мемуарист и в характеристике своих отношений с М. Волошиным, не написав ни о дарственных надписях на книгах, в которых поэт уверял его в своей дружбе и любви, ни о высоких оценках, которые были даны этим мастером чулковским переложениям „Песен“ М. Метерлинка и другим его работам. Не вспомнил он и о своем участии в диспуте, устроенном Волошиным и „бубнововалетцами“, куда его пригласил сам Волошин и где его высказывания, носившие „примирительный“ характер, помогли создать творческую атмосферу обсуждения, которая была так необходима устроителям.[15]
Завершая тему взаимоотношений Чулкова с его современниками, укажем еще на одну особенность автора мемуаров — его проницательность (например, в связи с творчеством Анны Ахматовой). Оценка творчества Ахматовой как наследницы заветов символизма и одновременно последовательницы классического направления в русской поэзии и ученицы И. Анненского, едва ли не впервые была предложена именно Чулковым в статьях „Пятьдесят девять“ (1912), „Хомуз“ (1913), „Закатный звон“ (1914). Оказались пророческими и многие другие оценки Чулкова-критика (в частности, это касается поэзии Е. Кузьминой-Караваевой).
Однако в мемуарах были раскрыты не все творческие связи писателя. Он почти ничего не написал о своих учителях. Духовным учителем был для него Владимир Соловьев. Интересно поэтому читать рассказ „Отмщение“, где в собирательном образе писателя угадываются не совсем привлекательные соловьевские черты. Возможно, рассказ был задуман тогда, когда Чулков еще не стал правоверным солозьевцем и критически воспринимал соловьевское наследие, о чем и писал в своей ранней статье.[16] Но непререкаемым авторитетом для Чулкова всю жизнь оставался Ф. М. Достоевский. Его поэтика воспринималась им как „мятежный и смелый факт“ новой культуры. Поэтому Чулков смело наследовал, а подчас и копировал мысли и стиль этого художника. По поводу романа „Сатана“ (1914) критики даже возмутились: мол, раньше как-то не принято было афишировать заимствования, а тут перепевы сюжетной канвы „Бесов“ и „Братьев Карамазовых“ подаются абсолютно откровенно. Критики не заметили, что это был тщательно продуманный автором ход — „опрокидывание“ известной литературной схемы в новый исторический контекст. Можно даже считать, что Чулков открыл жанр римейка в русской литературе. Атмосферой „Белых ночей“, „Неточки Незвановой“, „Униженных и оскорбленных“ были подсказаны ему и образ Петербурга, и судьбы героинь в повести „Осенние туманы“ (1916).
Ознакомительная версия.