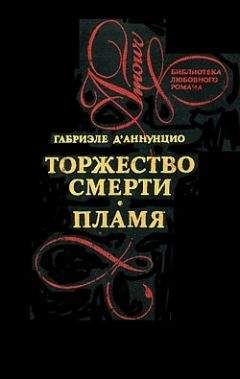С внутреннего двора дома вышел человек по имени Пинин. Я узнал его по толстым обвисшим усам и черному шарфу, обвязанному вокруг шеи. Он выглядел точно так же, как и в те времена, когда помогал мне взбираться на лошадь. Я представился ему и спросил об отце. Когда я услышал, что он в добром здравии и сидит в библиотеке, а мать жива и живет вместе с моей сестрой в близлежащем монастыре, я попросил Пинина сообщить отцу о моем возвращении. Нервничая, я принял лаконичный приказной тон, который при этих обстоятельствах заставил меня почувствовать, что я играю чью-то роль. Я стоял со всеми этими людьми, столпившимися позади меня, перед большими воротами, открывающими вход во двор. Мне не хватало мужества пройти через них: я опасался, что кто-нибудь дернет в мою честь железную цепь колокола. Я чувствовал себя персонажем дешевой пьесы, героем одного из романов-фельетонов, которые, я помнил, стояли в отцовской библиотеке. Стыдливость мешала мне переступить порог мира чувств и надежд, которые я ощущал уже не своими, но которые мой отец, возможно, все еще связывал со мной. Смущенное, беспорядочное предчувствие говорило мне, что между нами образовался разлом еще глубже того, виной которому было время: разлом между его разрушившимся итальянским миром и моим новым еврейским миром, в котором, как однажды с гордостью сказал Иоахим Мюрат[5], назначенный Наполеоном неаполитанским королем, я был своим единственным предком.
Отец внезапно появился в арке. Он тяжело дышал — наверное, бежал всю дорогу от библиотеки. Он резко остановился напротив меня, думая, что, может быть, его кто-то дурачит. Мгновенье мы пристально смотрели друг на друга изучающим взглядом, потому что оба сильно изменились. Молодой человек в военном берете, надетом набекрень, с пшеничными усами, с шелковым шейным платком особой части и револьвером, торчащим из холщовой кобуры на поясе, явно выглядел в его глазах иначе, чем тот мальчик в синем костюме и рубашке с накрахмаленным воротничком, которого он провожал на пароход в Триесте в 1939 году. Отец, с белой бородой, отросшей во время жизни в подполье, с поредевшими, но все еще черными волосами, похудевший так, что его тощее тело едва заполняло вельветовый костюм, приобрел патриархальный облик, совершенно новый для меня. Только его застегнутые на кнопки ботинки были мне знакомы.
Он не протянул мне руки и не сделал никакого другого жеста, оба мы стояли безмолвно, не в состоянии абстрагироваться от тех образов, которые мы сохранили в памяти за долгие годы. Изменившись внешне, внутренне мы чувствовали себя одновременно и теми же самыми, и другими: нас связывала кровь и разделял столь различный жизненный опыт. Все это, конечно, длилось долю секунды, но шок для нас обоих был очень силен. Отец заговорил первым, спросив, к какой части я принадлежал. Я ответил: к Палестинской бригаде[6]. Возможно, он не понял, что я имел в виду, но только лишь после моего ответа он протянул правую руку, а затем левой обнял меня. Люди позади нас громко разговаривали. Кто-то начал аплодировать. Мы не обращали на них внимания. Повернувшись к ним спиной, чтобы никто не мог заметить наших эмоций, мы медленно, рука об руку, перешли во внутренний двор и пошли в направлении сада, теперь заросшего сорняками. Отец обнял меня за плечо. В тишине мы встали на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей к площадке для игры в шары, неухоженной и заросшей, чтобы посмотреть на долину — бывшее поместье отца и его родителей.
Долина не изменилась, только возле реки Танаро немцы построили аэродром. Долина хранила в себе часть наших общих воспоминаний и была свидетельницей грусти нашего расставания пять лет тому назад. Мы чувствовали, что здесь можем снова общаться, безмолвно говорить друг с другом, преодолевая ту пустоту несбывшихся надежд, которую ни одному из нас не под силу заполнить. Поэтому, когда отец впоследствии внезапно выбрал именно это место, чтобы говорить о своей душе, я знал, что он приближается к концу. Он был убежден в неудаче своих попыток направить меня на моем пути, и у его слов, произнесенных прерывающимся голосом слов, не было иной цели, как научить меня встречать смерть с достоинством и отстранением.
И я тоже думаю о смерти, стоя на вершине лестницы, ведущей к площадке для игр в мяч, и обращая свой взгляд на тени, отбрасываемые деревьями на берега Танаро. Но я не могу представить свою душу в виде мерцающего пламени догорающих углей жизни. Моя душа видится мне скорее как свет, отраженный маленькой, незначительной звездой, одной из тех, которые Сент-Экзюпери дал бы Маленькому Принцу, чтобы тот мог ездить к ней: счастливой и легкой в общении звездой, которая как минимум дважды помогла мне избежать уготованной судьбой смерти, однажды — когда я был ребенком, и еще раз — в дождливый вечер в оккупированном Бари.
Я искал джемпер в рюкзаке, одолженном мне королем Великобритании вместе с двумя парами белья, двумя зимними рубашками и тремя летними, двумя парами брюк и короткой кожаной курткой, чтобы я лучше воевал. Мне также выдали большой складной нож, пару ботинок, мешочек с нитками и иголками, гетры и целую комбинацию подсумков и ранцев, которые, вместе со смахивающей на перевернутую суповую тарелку каской, делали нас похожими на древних воителей в современном мире.
На дне рюкзака я хранил большой револьвер из захваченного нами арсенала итальянской армии. Он был громоздким и тяжелым, и я забыл, что он заряжен. Я вынул револьвер из рюкзака и положил его на угол кровати, а потом случайно задел его коленом. Оружие упало на цементный пол дулом вниз, и, хотя кровать была высотой меньше метра от пола, этого хватило, чтобы спустился курок и раздался выстрел — как раз в тот момент, когда я наклонился, чтобы поднять револьвер.
Вспышка выстрела на мгновение ослепила меня, и память об оглушающем звуке сопровождает меня до сих пор. Удивительно, но тогда я вовсе не испугался, несмотря на то что от природы не отличаюсь особой смелостью. Но я не могу избавиться от образа, вспыхивающего в моей голове: я вижу себя самого, наклонившегося вперед, будто вытягивая шею на плахе… Словно иллюстрация из трехтомной «Истории знаменитых людей», которую отец хранил на второй полке книжного шкафа.
Ребенком я часами листал эти книги, которые, я думаю, больше, чем какие-либо другие, заразили меня вкусом к романтической героике. В каждом томе была коллекция примитивных акварелей, каждая из них защищена листом папиросной бумаги с оторванными углами и пятнами ржавчины. Я вспоминаю те акварели, глядя на ржавые пятна на стволе лежащего на полу возле моей кровати револьвера, теплого и вульгарного.