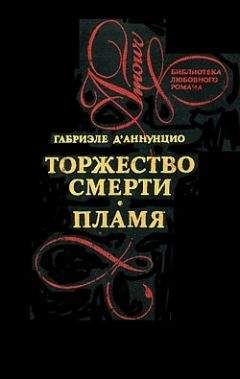Ребенком я часами листал эти книги, которые, я думаю, больше, чем какие-либо другие, заразили меня вкусом к романтической героике. В каждом томе была коллекция примитивных акварелей, каждая из них защищена листом папиросной бумаги с оторванными углами и пятнами ржавчины. Я вспоминаю те акварели, глядя на ржавые пятна на стволе лежащего на полу возле моей кровати револьвера, теплого и вульгарного.
Не помню, сколько времени потребовалось мне, чтобы набраться сил, поднять и разрядить револьвер — три секунды, две минуты, три часа? Но я знаю, что, посмотрев в зеркало, криво привешенное над заросшей грязью раковиной, я увидел отражение чужого, бледного лица с сожженным локоном волос, который торчал над парой глаз, уставившихся невидящим взглядом в пустоту моей смерти.
Глубокое молчание царило в комнате. По-видимому, никто на нижнем этаже не слышал выстрела. Если бы я умер, они наверняка подумали бы, что я покончил с собой. В каком-то смысле это было бы правдой: в тот день я думал о самоубийстве и чувствовал, будто улизнул от своей судьбы.
Я продолжал верить в свой жребий до тех пор, пока моя жена не решила починить без моего ведома serre-papiers и заткнуть дыру, сделанную пулей из отцовского револьвера. Теперь заклинание более недействительно.
Все же время от времени я обнаруживаю, что верю в то, что, спрятавшись в полированном дубе, в секретере дремлет лоскуток моей особой судьбы.
Моя мать, рожденная еврейкой, похоронена на христианском кладбище. Судьба, кажется, проделывала фокусы с нашей семьей. Мать действительно любила путешествовать больше моего отца, однако никто не мог предположить, что, обескуражив всех своим крещением после моего отбытия в Палестину, она станет первым за две тысячи лет членом нашей семьи, который отправится в Святую Землю, чтобы умереть там, как это принято у глубоко верующих евреев.
Моя мать покоится на маленьком монастырском кладбище в Эйн-Кереме, там, где встретились Мария и Елизавета. Она похоронена в тени высоких кипарисов на квадратном участке земли, окруженном высокими стенами, которые естественным образом побуждают поднять глаза к небу. Дикорастущая герань и ленивые ящерицы следуют за солнечными лучами по могильной плите, медленно оседающей в землю. Запах розмарина всегда вызывает у меня в памяти квадратную плиту из черного магрибского камня, под которой лежит Камю на маленьком провансальском кладбище. «Родина, — писал он, — это земля, покрывающая кости наших предков». Если это правда, то я благодаря матери-христианке пустил корни в земле моих еврейских предков, хотя пятьдесят лет активной жизни там не заставили меня почувствовать эту землю своей.
Как бы там ни было, никто не мог себе представить такой конец для моей матери, которая в начале XX века была не только одной из самых красивых еврейских девушек Пьемонта, но еще и одной из самых желанных партий в Турине. На миниатюре, нарисованной по случаю ее свадьбы, она выглядит как фея: копна каштановых волос убрана кверху по моде того времени, венчая совершенный овал ее лица; длинная шея украшена тремя нитями жемчуга, падающими на кружевной лиф ее платья, а наманикюренные пальцы белой руки с изяществом держат жемчужные бусины, как будто знают, что им уготовано перебирать четки. На другой картине она предстает во всей своей красе, одетая в японское кимоно. Картина была написана в преддверии Первой мировой войны в маленьком зарешеченном садовом павильоне синьорой Петреллой, художницей, пользовавшейся мимолетной славой в провинциальных театрах. Эта бедная женщина кончила свои дни в деревенском доме для престарелых, который (прежде чем его перестроили и модернизировали в шестидесятые годы) был просто лачугой, где обитатели ели из жестяных котелков, используя свои кровати как столы.
В пятидесятых годах синьора Петрелла делила нищету, запустение и грязь своей комнаты с двумя тощими старухами. Когда я изредка навещал ее, она любила говорить о приемах, которые моя мать давала в нашем сельском доме. Сегодня, без прежней мебели, никто не может представить себе былого великолепия этих комнат. Теперь они пахнут плесенью, и вторгшиеся туда древесные черви проели позолоченные рельефы дверных косяков и деревянные оконные переплеты. Еще задолго до моего рождения епископы городов Кунео и Альбы беседовали в гостеприимной атмосфере этого дома, предоставленного еврейским мэром города, с графом Монтефиоре, отпрыском морганатического брака Виктора-Эммануила II[7]. В других, менее официальных случаях, когда аристократия округа собиралась в этих залах, чтобы посудачить о войнах, коровах и борьбе с филлоксерой — американским вредителем, поедающим виноградники, — моя мать задавала тон, играя на спинете и приглашая кого-нибудь из гостей продемонстрировать свои певческие таланты. Синьора Петрелла любила подолгу говорить, описывая общество поселка, которое было для нее безуспешным трамплином в итальянский свет конца XIX века. Воспоминания о роскоши обитого шелком ландо, в котором моя мать возила ее в близлежащие города Астию и Альбу, всегда трогали ее. Синьора Петрелла, будучи экспертом в городских модах, давала ей советы, какие платья купить для предстоящего театрального сезона или для особых «семейных вечеров», где дамы играли в ремми, а мужчины в «три семерки», пока все не собирались вместе, чтобы с восторгом смотреть на представление только что приобретенного волшебного фонаря.
Очевидно, синьора Петрелла никогда не понимала, насколько моя мать ненавидела ту деревенскую жизнь, в которую ее забросило замужество. Она не разделяла страсть моего отца к верховой езде и охоте, светская болтовня местного общества ее не интересовала, а политические дискуссии — еще менее того. Даже такие исключительные события, как прибытие в Асти Буффало Билла или приглашение моему отцу от полковника Коди устроить соревнование по скачкам между их лошадьми, не вызывали в ней ни малейшего энтузиазма. Она до смерти скучала в золоченой клетке, куда ее заточил мой отец. Будучи бездетной более десяти первых лет замужества, она завидовала своим более удачливым подругам, которые могли развлекаться, вращаясь в светском обществе Турина среди многочисленных членов королевской семьи.
Пьемонтские евреи не так уж давно вышли из гетто: мой прадед по отцовской линии вырос в гетто Ивреа, а с материнской — в туринском. Они не принадлежали к семьям, прославившимся в войнах итальянского Рисорджименто — движения, развернувшегося в XIX веке за политическое объединение Италии, — но они боролись за свои права и были всей душой преданы Савойской династии[8], которая в 1848 году даровала им гражданские свободы. За последующие тридцать лет они постепенно забыли большинство ценностей и обрядов веры своих предков. Мои деды уже не могли читать на иврите, языке, который знали предыдущие поколения. Бабушка со стороны матери читала свои ежедневные молитвы в сокращенном виде, не понимая их смысла; более семидесяти лет подряд она произносила каждое утро на иврите благословение, в котором еврей благодарит Бога за то, что Он не сделал его женщиной.