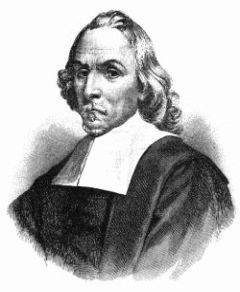Глава II. Период испытания (1788—1795)
Переселение в Нормандию. – Политические воззрения Кювье. – Научные занятия. – Неблагоприятная обстановка: пошлое общество; недостаток пособий; равнодушие друзей. – Зародыш важнейших идей и трудов Кювье. – Связь с Кильмейером. – Переписка с Ласепедом. – Знакомство с Тесье. – Кювье в Париже. – Быстрый успех. – Дружба с Э. Ж. Сент-Илером. – Начало блистательной карьеры Кювье. – Перелом в физическом организме.
Кювье переселился в Нормандию в 1788 году, накануне Великой Французской революции, и провел здесь восемь лет (1788—1795), предаваясь естественноисторическим исследованиям. Ураган, разметавший старый порядок, почти не коснулся этого мирного уголка; сюда залетали лишь слабые отголоски революционной бури. Нормандия, как и Бретань, была еще насквозь пропитана духом старого порядка.
Законодательное собрание, клятва в Jeu de Paume, взятие Бастилии, ночь 4 августа, восстания по всей Франции, смуты в Париже, сентябрьские убийства, бегство, арест и казнь короля, вооружение Европы против революционного правительства, террор – словом, вся революционная эпопея пронеслась мимо «счастливого уголка», в котором трудился будущий законодатель науки.
Впрочем, Кювье был далеко не равнодушен к политике. Из писем его к Пфаффу (1788—1792) мы видим, что он с величайшим интересом следил за разыгрывавшейся перед его глазами трагедией. Политика занимает в этих письмах почти такое же место, как и наука, и, если выбрать из них места, относящиеся к периоду до революции, то получится довольно полный ее очерк.
После окончания Штутгардтской академии Кювье был решительным либералом. Вот что писал он Пфаффу из Монбельяра по поводу общества, среди которого ему пришлось очутиться по возвращении в родной город, – общества, состоявшего из старика Кювье, английского капитана Бердо, парижского танцмейстера Делестра и священника Дювернуа: «Странное общество: все четверо – отчаянные политики, как вообще французы. Отец как военный – партизан деспотизма; Делестр как парижанин не признает никакого закона, кроме „доброй воли короля“; наконец, богослову помнится, что он еще в молодости слыхал в какой-то школе прав, будто монархия должна подчиняться воле одного человека. Можешь себе представить, легко ли вложить в головы подобных людей, что король в настоящее время действует против конституционных законов своего государства, а между тем именно это я намерен сделать».
Либеральное настроение не оставило его и после переезда в Нормандию. Он с величайшим сочувствием следит за деятельностью Законодательного собрания, радуется «счастливой ночи» (4 августа), негодует на интриги защитников старого порядка, восхищается «мудростью, решительностью и бескорыстием наших законодателей», – словом, является полным приверженцем революции.
«Ты спрашиваешь о чувствах моих и здешней публики по отношению к французской революции, – пишет он. – Ты должен угадать мои. Свобода и равенство выгравированы в сердце каждого просвещенного человека. Но в Кане более чем не просвещены. Я уже писал тебе, что в этом городе масса дворян, нет ни торговли, ни мануфактуры, народ беден и в полной зависимости от дворянства. Это последнее не просвещено ни в каком уголке мира, а здесь менее чем где-либо; говорю – здесь, где нет ни ученых обществ, ни парламента, ни богатых коммерсантов, которые могли бы возбудить соревнование, как это бывает, например, в Париже и Руане».
Мало-помалу, однако, эти либеральные воззрения рассеялись. В сущности, они вовсе не подходили Кювье – спокойному, холодному, инстинктивно восставшему против всяких внезапных и резких перемен. Кювье в высшей степени не любил «стулья ломать». И в жизни своей он был спокоен, работая «без отдыха и без торопливости», неуклонно преследуя свои цели, но не прибегая ни к каким экстренным средствам для их достижения, не кипятясь и не волнуясь. Он отказался от поездки в Россию, где при недостатке местных ученых, конечно, мог бы сразу занять выдающееся положение, – и предпочел мизерную должность домашнего учителя. Он восемь лет работал в своем уголке, обдумывая реформы в науке, собирая материал, накопляя открытие за открытием в своих учебных тетрадях и не хлопоча об их обнародовании. Впоследствии, когда Бертолле предложил ему участвовать в знаменитой Египетской экспедиции (1798), он отказался, зная, что и на месте найдет достаточно работы…
Естественно, что этот склад натуры Кювье отражался и на его политических воззрениях. Как в личной судьбе он терпеливо дожидался результатов, к которым должны были привести его гений и труд, так и в общественной жизни он ждал медленных, но неизбежных результатов науки, в преобразовательную силу которой глубоко верил, – и чувствовал недоверие и отвращение ко всяким общественным судорогам, ко всяким внезапным переворотам.
Да и время же было тогда!
Надо было иметь фанатическую веру в целесообразность революции, чтобы остаться ее сторонником, видя «подвиги» Фукье Тенвиля и Колло д'Эрбуа, зверства Карье, – и вообще то дикое настроение, при котором головы человеческие подешевели, как гнилой картофель, и зарезать «аристократа» казалось легче, чем свернуть голову цыпленку.
А Кювье менее всего мог назваться фанатиком.
Уже в первых письмах его мы находим – рядом с сочувствием «великому Целому французской революции»– выражения негодования и сожаления по поводу некоторых частных восстаний и убийств. Когда же кровь полилась рекой, а головы посыпались градом, им овладело решительное отвращение к революции. В только что цитированном нами письме мы находим вслед за тирадой о свободе и равенстве такое двусмысленное замечание: «Счастлива ли нация – трудно сказать. Если и счастлива, то счастьем человека, заболевшего горячкой, которая в то же время исцелила его от прежних болезней. Горячка, любезный Пфафф, плохое лекарство».
Немного позднее мы видим его уже вполне консерватором: «Я не говорю о политике. Слишком тяжело отказываться от надежд… Головы этого народа сделаны не для свободы. Укажу тебе на следующие факты: арест 80 человек в Кане, волнения из-за хлеба в Нойоне, убийство мэра в Этампе и осада Э восемью тысячами марсельцев. Могли ли эмигранты сделать что-нибудь хуже для республики… Какая же цель этих многочисленных и одновременных возмущений? Просто, – ввести в министерство несколько интриганов… Мой взгляд на революцию переменился… Притом помни всегда, что для честных людей свобода существует под всеми формами правления». В этих словах отчеканился политический кодекс Кювье, возведший его впоследствии на вершину почестей и славы.