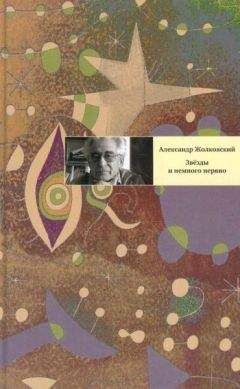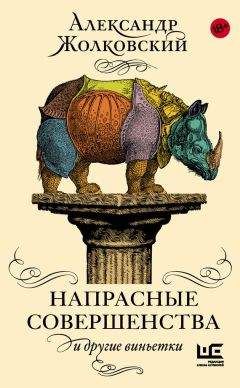Иногда он проводил в подвальной конторе кооператива лекцию о международном положении. Это был особый формат — говорилось в сущности то же, что в газетах, но с доверительным вкраплением людоедских антиимпериалистических деталей. Образцом ему служил классик жанра — некий Свердлов, говорили, что это брат давно покойного первого главы Советского государства, читавший такие лекции в больших московских аудиториях. Помню, как позднее, во время антикосмополитической кампании (1949? 1952?), мой двоюродный дедушка сходил на лекцию Свердлова и, вернувшись домой, похвастался своей гражданской смелостью.
— Лектор предложил задавать вопросы, я поднял руку и сказал: «Прошу рассказать о борьбе Коммунистической партии Израиля».
Мы с Женькой дружили вдвоем, противопоставляясь другим сверстникам — Гарику, Кириллу, дворничихиному Пашке, маленькому Лёке. Опасность пришла с неожиданной стороны. В дом въехала новая семья, с мальчиком постарше нас, тоже Аликом, очень толстым. Подходящей компании ему не нашлось, и он начал водиться с нами, но, конечно, в роли главного. Он стал Алёмой Большим, я — Алёмой Маленьким, Гарик — Гарёмой, остальные прозвищ не получили. Женька, я и Алёма Большой образовали тайное общество «Жало», с пропорциональным представительством букв в акрониме. Вообще, все в этом обществе было устроено демократично, все решения принимались голосованием, — с той особенностью, что Женька и Алёма Большой всегда голосовали вместе, а я оставался в подавляемом меньшинстве. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет? Принято двумя голосами против одного! Образцом, наверно, служили голосования в недавно образовавшейся ООН, с ее автоматическим проамериканским большинством, но отдавало и сталинской конституцией.
Почему я терпел это постоянное унижение и не покидал рядов тайного общества, в котором мне ничего не светило? Из боязни одиночества? Из уважения к парламентской процедуре? А может, из преждевременного литературоцентризма? «Жало» выпускало рукописный альманах, и некоторые жальские стихи я помню до сих пор. Например, фрагменты длинной поэмы в двухстопных амфибрахиях о лошадке и кобыле (sic!) и других зооморфных персонажах, конфликтоваливших из-за товарного дефицита:
Прискакала кобыла
В магазин и завыла:
«Нет нигде куска мыла —
Все лошадка купила!»
И решила лошадка
Отомстить так кобыле,
Что той будет несладко,
Что влетит ей за мыло.
Исход поединка сообщался в эпилоге:
Рано утром сорока
Пролетала над ёлкой.
Что ж она увидала?
Там два трупа лежало!
Были и отклики на злободневные темы; так, сатирический образ Вали Шилина был запечатлен размером пушкинских «Бесов»:
Валя Шилин убивает
Много тигров, медведей,
Шкуры ценные снимает
И с куниц, и с соболей.
Видимо, литературная отдушина примиряет с любой тиранией. Да и так ли страшна приговоренность к меньшинству, оставшаяся на всю жизнь? Это просто еще один из ликов минимализма.
Акмеизм в туфлях и халате
В доме № 41 по Метростроевской улице (ныне опять Остоженке), где я прожил всю свою советскую жизнь, бывал Мандельштам. Он бывал там у своего собрата-акмеиста Михаила Зенкевича. Сын Зенкевича Женя был другом моего послевоенного детства, и я много времени проводил у них в квартире. Сначала они, как и до войны, занимали полуподвальную квартиру № 1, а потом переехали в лучшую, бельэтажную, № 26, где Женя с семьей живет и сейчас.
У Зенкевичей я чувствовал себя как дома. Меня родители держали строго, а Женьку баловали. Он мог без ограничений собирать марки и покупать рыбок. У него, а не у меня, проходили наши детские игры, в частности в пуговичный футбол; я располагал всего одной командой, а Женька — целой лигой «А», так что мы по всем правилам разыгрывали собственный чемпионат. У Зенкевичей же я впервые смотрел телевизор и слушал магнитофон. Меня совершенно не стеснялись, и поэта-акмеиста я привык видеть в сиреневых кальсонах, а его жену Александру Николаевну, располневшую актрису былых времен («красавицу пленную турчанку», согласно прочитанным в дальнейшем мемуарам Надежды Яковлевны), — в халате. К ней в возрасте лет шести-семи я питал эдиповские чувства, которыми как-то раз поделился с поднявшим меня на смех Женькой.
В квартире было много книг, Михаил Александрович занимался переводами из американской поэзии, но о литературе речи практически не было. Сам М. А. вообще разговаривал мало. Александра Николаевна нигде не служила, проводила много времени на лавочке во дворе и готова была говорить о чем угодно, только не на рискованные литературные темы. Старший сын Зенкевичей, красавец-спортсмен Сергей, выбрал профессию физика-ядерщика и молодым умер от лейкемии. Женька был большим выдумщиком (сказывались писательские гены), окончил в дальнейшем Иняз, но словесностью не интересовался. «Канальскими стишками» (как окрестили Мандельштамы верноподданические стихи Зенкевича, напечатанные после поездки писателей на Беломорканал) было оплачено не только благополучие семьи, но и его литературно-самоубийственная изнанка. В результате о Мандельштаме я узнал не от них, а как все, — прочитав где-то в конце пятидесятых годов машинописное самиздатовское собрание. Но узнав, стал спрашивать.
В ответ на мое проснувшееся любопытство Михаил Александрович однажды изобразил, как Мандельштам с завыванием и озорным выделением похабной клаузулы скандировал строчки из «Зверинца»: Я палочку возьму суХУЮ,/ Огонь добуду из нее,/ Пускай уходит в ночь глуХУЮ/ Мной всполошенное зверье! В другой раз Александра Николаевна рассказала, как Мандельштам приходил занимать деньги.
— Бывало, истратится, придет перехватить десятку. Ну, Михаил Александрович ему дает. Он уходит, смотрим, — тут я ясно представил, как, поднявшись по лестнице из подвала, она смотрит вслед Мандельштаму, удаляющемуся вдоль дома и через скверик выходящему на улицу, — смотрим: он уже извозчика берет!
Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:
— «Уважаемый»! Попробовал бы он Сталину так написать!
В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).