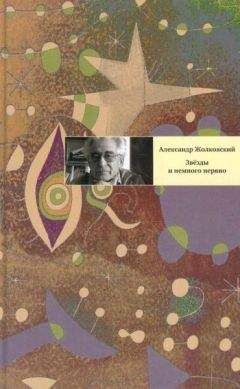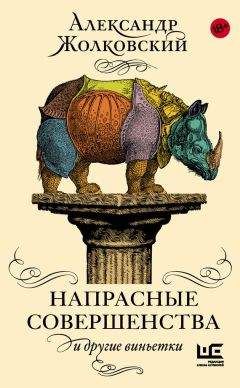Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:
— «Уважаемый»! Попробовал бы он Сталину так написать!
В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).
Сурово обращалась она и с собственным мужем-поэтом. Как-то много позже, наверно, в начале 70-х, я встретил ее в скверике перед домом. Речь зашла о М. А. и выходе его книжки стихов.
— Он хотел мне подарить, но я не взяла. Он включил в нее те стихи, неприличные. Я говорила, чтобы он их не печатал. Он бегал их читать к Маруське Петровых. Вот пусть ей и дарит.
Я не помню, да, кажется, не понял и тогда, в чем состояла суть обвинения: в том ли, что Зенкевич «бегал» к Марии Петровых в эротическом смысле слова; в том ли, что он посвящал ей и читал у нее стихи, будь то любовные или нет; в том ли, наконец, что, ослушиваясь жены, позволял себе сочинять нечто рискованно амурное, неважно кому адресованное. В расспросы я не пустился и даже стихотворение идентифицировать не попытался (в специально просмотренном сейчас сборнике 1973 года ничего даже отдаленно эротического нет). Запомнилось другое.
Меня поразила несвобода литературы от житейских обстоятельств. Ладно там Беломорканал, Воронеж, Гулаг, Жданов, нобелевская травля — на то и диктатура. Понятно и про «страх влияния» — бумаги нехватает, пишешь на чьем-то черновике, какая уж тут свобода?! Но чтобы восьмидесятилетний поэт, так ли, эдак ли проживший сквозь весь подобный опыт, должен был при составлении первой за многие годы самостоятельной книжки оглядываться на жену, — это было настоящим откровением. Слава богу, Зенкевич хоть тут не сплоховал и сориентировался на Маруську.
Несвобода эта очень знакомая. В мемуарных заметках, да и в критических эссе, все время опасаешься, как бы не сказать что-нибудь не то и кого-нибудь не того не так назвать. Особенно много приходится слышать, как нехорошо снижать образы наших кумиров неприглядными деталями. Для острастки обычно призывается Пушкин, сказавший, что великие люди, даже если и мерзки, то, врете, и мерзки-то они не так, как вы, — иначе!
Пожалуй. Но именно поэтому кумирам никакое снижение не страшно. Ну тратил Мандельштам чужие деньги на извозчика, напевая про палочку суХУЮ, ну любезничал Пастернак с хозяйкой Чистополя ради поддержания сестры своей жизни, — все это теперь лишь ценные штрихи к портретам великих. Хуже Зенкевичу, о кальсонах которого я упоминаю уже с некоторой морально-этической дрожью (другое дело, если бы я мог пролить новый свет на исподнее Мандельштама или Пастернака), и тем более Александре Николаевне. Какой неблагодарностью отвечаю я на ее квази-материнство и даже некоторое квазииокастовство, а заслониться ей нечем, разве что знакомством с тем же Мандельштамом. И совсем плохо мне, настолько рядовому, что я не решаюсь выписать здесь тот по-детски нескладный глагол, которым я объяснял Женьке, что бы я мечтал делать с его матерью (ничего, кстати, такого палочного). Не решаюсь, ибо понимаю, что мои скромные персона и стилистика не выдержат его нелепости. То есть робею еще больше своего канальского соперника.
Из воспоминаний
Не будучи моим родным отцом, а формально и отчимом, он был единственным папой, которого я знал (а я — единственным объектом его отцовства).
Мама училась у него в Консерватории, он дружил с ней и моим отцом[4], а когда в 1938-м тот утонул (мне не было года), он очень поддерживал маму. Они постепенно сблизились, но поженились только с началом войны, чтобы не потеряться в надвинувшемся хаосе. Не усыновлял он меня сознательно, чтобы не осквернить своим пятым пунктом моего, идеально чистого[5].
Это продуманное сочетание близости с отстраненностью характерно. Гармонию он постоянно поверял алгеброй — в конце концов, это была его профессия. Тем более что вдобавок к Консерватории он параллельно окончил мехмат МГУ.
Он был воплощенная корректность и пунктуальность, и на эти темы мог быть неприятно зануден, но чаще изобретателен, — как когда ставил мне в пример Прокофьева, который, идя в гости с женой, настаивал на том, чтобы приехать заранее, и в любую погоду заставлял ее гулять с ним вокруг дома до назначенного времени, чтобы позвонить у дверей минута в минуту.
Сухарем он никак не был. Помню отголоски (в разговорах за чайным столом в годы моего детства) периодически возобновлявшихся дебатов о предполагаемой виновности Сальери в отравлении Моцарта. В качестве наиболее ярких участников дискуссии упоминались Б. С. Штейнпресс (1908–1986, отец моего сверстника и приятеля еще по эвакуации Толи, известного собирателя бардовской песни, недавно умершего в Лос-Анджелесе) и И. Ф. Бэлза (1904–1994, отец ныне знаменитого Святослава Игоревича). Не уверен, брал ли папа чью-то сторону, но хорошо помню, что он лукаво драматизировал конфликт между «представителем мирового сальеризма» Штейнпрессом, редактором энциклопедических словарей, человеком солидным, основательным, тяжелым («Подумай, — говорил папа, — штейн, “камень”, да еще и пресс!» — и руками показывал, как этот каменный пресс давит), и моцартианцем Бэлзой, который уже тогда (а в 1960-е годы и на моей памяти) одевался с европейским шиком (помню его щегольскую белую бабочку) и, будучи выездным, мог быть лучше осведомлен о состоянии мировой науки, но держался обвинительной пушкинской версии.
В связи с этим вспоминается встреча в Лос-Анджелесе с Николасом (Николаем Леонидовичем) Слонимским (1894–1995), дирижером, композитором и музыкальным лексикографом, прожившим почти всю свою взрослую жизнь в эмиграции. Ему было слегка за 90, но он был бодр, встретил меня в шортах, мы быстро покончили с приведшим меня делом и разговорились на разные темы.
Началось с Пушкина — Слонимский вспомнил, что брат когда-то говорил ему, будто найдена какая-то совершенно непечатная поэма Пушкина, так вот, нет ли у меня сведений о ее судьбе. Под братом, по-видимому, подразумевался пушкинист Александр Леонидович Слонимский (1881–1964), а под непристойной поэмой — «Тень Баркова», в конце концов опубликованная лишь в 2002 году.
Дальше разговор естественно перешел на «Моцарта и Сальери» и недавнего «Амадеуса» (1984), и Слонимский похвастался своим вкладом в моцартоведение.