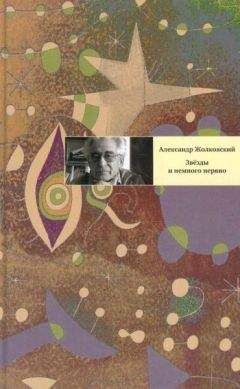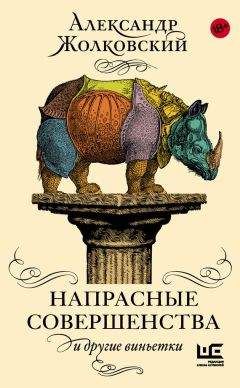В 1946 году в Верховный Совет избирался Председатель Комитета по делам Искусств М. Б. Храпченко (1894–1984), которому парой лет позже предстояло быть снятым со своего поста в ходе борьбы партии против формализма Шостаковича и Прокофьева. Выдвинут он был от Ивановского избирательного округа, потому что под Ивановом располагался один из Домов творчества композиторов (где мы с папой и мамой, а потом и без мамы, неоднократно бывали). Папе пришлось поехать на собрание избирателей и произнести предвыборную речь о Храпченко. Оттуда Храпченко прибыл в Дом творчества, где был торжественно встречен директором то ли Дома творчества, то ли всего Музфонда, великим хозяйственником (почему-то мне помнится фамилия Лемперт, но я могу ошибаться), и проведен в столовую вдоль великолепной хвойной аллеи. Аллея эта была в ударном порядке лишь накануне создана на глазах у изумленной публики путем втыкания срубленных в соседнем лесу могучих елей в не менее мощные февральские сугробы. Дав Храпченко полюбоваться на эффектный вид в кремлевском стиле, Лемперт (если это был он) демонстративно пнул одну из елей ногой, она повалилась, а он, повернувшись к Храпченко, объявил:
— Это потемкинские елки! Ха-ха-ха!! Здорово я к вам подлизываюсь?!
Храпченко, будущий академик (1979) и даже семиотик (!), с одобрительным хохотом проследовал на банкет в свою честь.
У папы я прошел неоценимую школу интеллектуального воспитания всех ступеней. Да и для многих моих коллег он был образцом ученого. Нас со Щегловым он, например, учил не только строгости искусствоведческой мысли, но и здравым принципам научной прагматики, например тому, что новые методы предпочтительно опробовать на классическом материале, а новый материал вводить традиционными методами, остерегаясь шокировать неизбежно консервативную аудиторию. Он говорил об этом, основываясь на собственном опыте музыковеда, битого за формализм и любовь к новой тогда музыке Шостаковича, но мы, конечно, не слушали. Он, как всегда, оказывался прав.
Познакомившись лично с одним из вождей структурной лингвистики, он удивил меня и мою тогдашнюю жену Иру, тоже филолога, сдержанностью своего отзыва. Наперебой повторяя, какой тот замечательный ученый, мы стали допытываться, что же в нем могло не понравиться.
— Мне показалось, что у него негибкий ум.
Последовала буря протестов, но своего мнения папа не изменил. Его формулировка запомнилась и чем дальше, тем больше поражала меня своей проницательностью. Как известно, в глазах детей родители с годами умнеют.
Во второй половине 60-х годов, в эпоху «пражской весны», когда мне и моим друзьям казалось, что наш подписантский порыв не напрасен и вот-вот, как поется у Окуджавы, «что-нибудь произойдет», он, предоставляя мне свободу гражданского выбора и потому не отговаривая, держался сугубо скептического взгляда на перспективы этой кампании и оказался прав. Интересно, что когда десятком лет позже встал вопрос о моем отъезде за границу, он не только не противился, но полностью поддержал меня — с той оговоркой, что для него самого этот путь неприемлем, потому что привел бы к изъятию из оборота всего им написанного. К правильности сделанного обоими выбора он неоднократно возвращался и потом — как из-за «железного занавеса», так и после перестройки, когда я стал регулярно наезжать в Россию:
— Как хорошо, — говорил он. — Теперь, когда я постарел и обнищал[9], ты можешь меня поддерживать.
Папа давно задумал выйти на пенсию в 60 лет, с тем чтобы посвятить последующие годы написанию намеченных книг, и успешно этот план осуществил. Выбрав в молодости музыковедение, а не математику, он уже целиком отдался избранной науке, которую обогатил своим математически точным подходом, но на собственно математику уже никогда не отвлекался. Женился он один раз (и воспринимал мои матримониальные эксперименты с недоумением: «Не понимаю тебя, Аля. Мы, евреи, не разводимся») — на моей маме. Но она рано умерла, и он пережил ее на 46 лет — всю вторую половину своей жизни. Желающих занять ее место было немало, но он умело обезвреживал эти поползновения, переводя их в товарищеский регистр. Претендентки на руку, сердце и квартиру становились телефонными собеседницами, советчицами, конфидентками, помощницами, вливаясь в широкий круг подательниц профессиональных услуг — врачей различного профиля, инструкторш по гимнастике, домработниц, машинисток, парикмахерш, педикюрш… Еще одна стратегия страховки и еще одно проявление постоянства.
На той же диалектике безопасности и страха строились его отношения с домработницами. С одной стороны, они обеспечивали уют и защиту, с другой — превращались во властных мучительниц, от которых он чем дальше, тем больше в своей практической беспомощности зависел. Примешивалось и общесоветское ощущение зависимости от любого мелкого начальства, начиная с консьержек, слесарей и почтальонов. (Один из бывших учеников, М. А. Якубов, занял непропорционально важное место в его жизни, взяв на себя подписку на газеты!) Помню зато наслаждение, с которым папа в конце концов уволил чванливую домработницу, появлявшуюся все реже и требовавшую все больших денег. Он настоял на том, чтобы лично объявить ей об этом.
— Ну а если я соглашусь на ваши условия? — спросила она, потрясенная провалом своего шантажа.
— А я вам не предлагаю никаких условий, — сказал он.
…Постепенно он дряхлел, страдая от депрессии и других болезней, и все больше терял интерес к окружающему, хотя и сохранял поражавшую знакомых ясность ума и памяти. Перестройка вернула ему интерес к жизни, но опять-таки в четко очерченных масштабах.
— Теперь мне надо дожить до приватизации квартиры и передать ее тебе, а там и помереть можно.
Выполнив где-то к восьмидесяти годам свои жизненные планы и долг передо мной и историей, он стал заговаривать о смерти регулярно и без страха — в сократовском ключе.
— Смерти я не боюсь. Я боюсь боли, больницы, беспомощности. Моя мечта — умереть при тебе. Приедешь и заодно похоронишь. Не придется срочно хлопотать о визе.
Он удивлялся своему долгожительству и даже начинал им тяготиться. Со свойственным ему юмором смаковал сигналы приближающегося конца.
Когда, чтобы сменить домработницу, мы устроили смотр нескольким кандидаткам, папа, объясняя условия, каждый раз, как бы между прочим, добавлял:
— Ну, работа, как вы видите, временная…
Году в 90-м в квартире сломался унитаз, слесарь явился навеселе, что-то починил, но с бачком велел обращаться осторожно — спиной не опираться. Папа встревожился и спросил, не заменить ли бачок.
— Да не, ничего, — сказал слесарь, покачиваясь на пути к выходу, — он еще п-по-постоит.