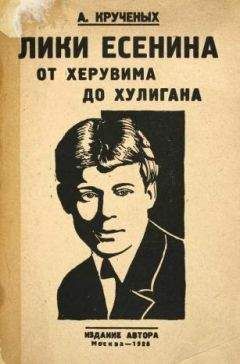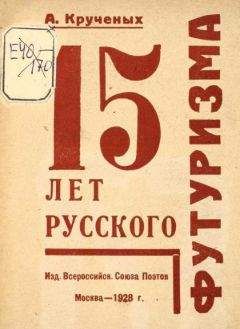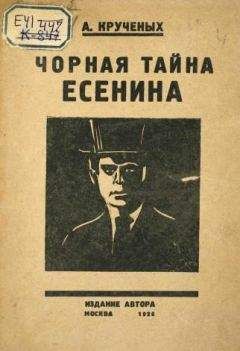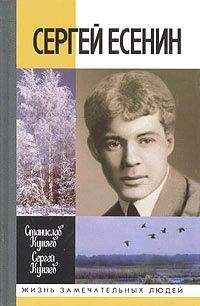(Здесь и дальше курсив наш).
Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума,
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.
Сумасшествие, зараза, чума, гибель — вот как рисуется любовь Есенину теперь. А ведь в более ранних стихах он мечтал о том, что любовь «явится ему, как спасенье». В тот период и любимая женщина представлялась его сознанию нежной и трогательной. Теперь она стала темным призраком, символом безобразной и бессмысленной жизни, «кабацкого пропада»[7]:
Пой, мой друг. Навевай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова
Молодая, красивая дрянь.
Интересно отметить, что образ любимой женщины у Есенина всегда соответственен, подобен тому образу самого поэта, который он рисует в своих стихах. Сам был светлым и кротким — и она была такой же. Сам стал «хулиганом» — и она стала «дрянью». И именно потому, что самого себя бичевать — мучительно, и ее он на минуту щадит:
Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляну.
Но пощада продолжается но более одного мгновения. В следующих строках поэт в темнейшие низины низводит и свой образ и образ возлюбленной:
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.
Льется дней моих розовый купол
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.
Да! Есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую … соком.
«Розовый купол» и «золотые сны» не спасли от черного провала. Жизнь покатилась вниз и поэт чувствует, что это уже непоправимо:
Так чего ж мне ее ревновать,
Так чего ж мне болеть такому
Наша жизнь — простыня да кровать.
Наша жизнь — поцелуй да в омут.
«В омут»… Невольно приходит на мысль, что поэт предчувствовал свою гибель. Но ведь надо же куда-нибудь деваться от нестерпимого сознания близкой гибели. И вот — отчаянный, истерический, последний разгул:
Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на…
Не умру я, мой друг, никогда.
Уверенный в том, что смерть близка, что она надвигается и вот-вот задавит — он старался внушить самому себе и своему «последнему другу» мысль о собственном бессмертии. Но «роковая беда» все-таки неотступно шла за ним по пятам и в конце-концов настигла его…
Вот еще одно стихотворение того же периода, что и первое. В некоторых его строках надрыв чувствуется еще острее:
Сыпь, гармоника. Скука… Скука…
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мной, паршивая сука,
Пей со мной.
Излюбили тебя, измызгали —
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
«Невтерпеж»… — некуда деваться от смертельного отчаяния, кроме как в пьяный угар: «Пей со мной». Но и в попойке не легче, и горькая досада берет, и спутница — не мила:
В огород бы тебя на чучело
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.
Сыпь, гармоника, сыпь, моя частая.
Пей, выдра, пей.
Мне бы лучше вон ту, сисястую, —
Она глупей.
«Чем хуже, тем лучше». «Она глупей», — ладно, пусть: ни в чем нет спасения, может быть оно найдется в «глупой», животной, мясистой любви. Но и любовь оказывается спасеньем не была и не будет:
Я средь женщин тебя не первую…
Не мало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.
И чем дальше, тем острее надрыв:
Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.
«Не покончу», — разве это обещание успокаивает? Наоборот: так горько сказано оно, что воспринимается в обратном смысле. Над тем, что в таких выражениях обещает остаться жить, — непременно маячит револьвер или веревка.
К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Могильным холодом тянет от этого последнего «простыть». И все таки жалко жизни, мучительно хочется все темное бросить, во всем «пропащем» раскаяться:
Дорогая, я плачу,
Прости… Прости…
Но «прости» звучит, как «прощай», как последнее слово перед смертью…
Оба цитированные нами стихотворения производят необычайное впечатление. В них мрачный пафос кабацкого отчаяния достигает последнего предела. Эти, самые жуткие стихотворения, являются в то же время и одними из лучших у Есенина. Вообще, в последний период его творчества, ему лучше удавались строки о мрачном разрушении (вроде вышеприведенных) нежели строки о светлом строительстве («Стансы» и проч.). Это вполне понятно: поэт всегда лучше всего пишет о том, что созвучно его внутренней жизни. А внутренняя жизнь Есенина в последние годы было только дорогой к смерти. И недаром вся книга заканчивается принятием этой смерти:
…Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.
Любимая, ну, что ж! ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.
Когда гибель неизбежна, остается ее принять. Так решил Есенин. Так, соответственно своему решению, он сам расположил стихи в книге[8], которой ему уже не суждено было увидеть напечатанной.
* * *
Более подробно и с большим количеством примеров мы говорим о 1-м томе «Собрания стихотворений» в готовящейся к печати нашей работе: «Новый Есенин».
1925-6 г.г.
126. А. Крученых. — «Леф-агитки Маяковского, Асеева, Третьякова». М. 1925 г.
127. Его же. — «Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабеля, Ар. Веселого». М. 1925 г.
128. Его же. — «Записная книжка Велемира Хлебникова». М. 1925 г.
129. Его же. — «Язык Ленина». М. 1925 г.
130. Его же. — «Фонетика театра». 2-е изд. М. 1925 г.
131. Его же. — «Против попов и отшельников». М. 1925 г.
132. Его же. — Ванька-Каин и Сонька Маникюрщица.
133. Его же. — Календарь.
134. Его же. — Драма Есенина.
134а. Его же. — Гибель Есенина.
135. Его же. — Есенин и Москва Кабацкая.