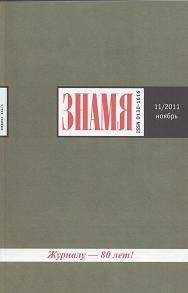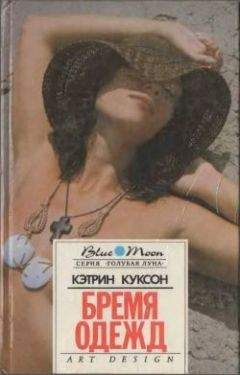И не отсюда ли известное ницшевское кредо о ценности иметь врагов?
Миссия сестры — не утешение, а спасение от забвения самого себя. Это придает ее поступкам священную беспощадность. Ее холодность была спасительна: так обмороженные руки растирают снегом. Как мало она похожа на других замечательных женщин эпохи: в ней нет теплого озорства Каролины, хищной притягательности Галы, властной преданности Козимы Вагнер. Она окружена ледяными красками северного сияния — Снежная Королева и Герда в одном лице… Не потому ли образ Саломе возбуждает столь тревожный, почти мучительный интерес? Интерес, который не утоляют, а лишь распаляют любые новые подробности, детали, нюансы ее судьбы? Не потому ли, что через нее с невиданной наготой в устоявшийся мир человеческих отношений ворвался вопрос: Чем вообще женщина может быть для мужчины? Кем она никогда еще не была для него?
Петер Гаст был прав: она действительно одной рукой убивает, чтобы другой подарить новую жизнь. Но не напоминает ли этот ритуальный образ действий обряд крещения? Разве можно достичь бессмертия, не пройдя через смерть? Хотя бы символическую? Быть может, Лу суждено было пробуждать апокалипсис в душах встречавшихся ей мужчин? Устремлять их к новому небу и новой земле?
Так ли это на самом деле? Была ли она в таком случае всегда на высоте своей призванности? "Вечное отчуждение в вечном состоянии близости — древнейший, извечный признак любви. Это всегда ностальгия и нежность по недосягаемой звезде", — так писала она сама. Ее образ потому и вызывает такую тревогу, что подымает со дна нашего сознания целый пласт позабытых архетипов христианской культуры. Она пробуждает вытесненную память о временах первых христиан, когда женщина была мистической сестрой всем братьям общины безраздельно. И внутренняя жизнь общины озарялась таинственным мерцанием; говорят, так светилась лесная келья, где преломляли хлеб святой Франциск со святой Кларой. И для того чтобы они могли стать Братом и Сестрой, он похитил ее, как трубадур. Названые Брат и Сестра всегда тянут друг к другу руки с разных краев пропасти, разделенные обжигающей и трепетной недостижимостью земной близости.
И никогда мы не делили ложа,
когда чудес и бдений близок час…
Но сердце все твое обнажено,
и только мне войти в него дано…
Слова, которые Рильке вложил в уста Марии Магдалины.
Но этот накал мистического притяжения и породил редкую окрыленность, присущую первым векам христианства. Лишь в IV веке Эльвирский, а затем Никейский соборы наложили запрет на присутствие в жизни духовенства этих "духовных жен", subintroductae, — и огрубевший мир стал забывать о тайне сестринства. Но оно прорвалось с новой силой в феномене средневековой алхимии — уже как магическое сестринство. Почти на всех алхимических гравюрах, изображающих "Великое Делание" алхимиков, присутствует таинственная фигура Сестры Алхимика. Любой великий человек — всегда алхимик, адепт Великого Делания, собственной духовной трансмутации. И у него всегда есть Сестра, которая присутствует в его священной ночи. С которой он должен слиться в философском инцесте. "Лунный голос сестры не смолкая звучит, наполняя священную ночь" — от этой строки Георга Тракля веет надеждой и жутью. Держась за руки, они должны совсем погрузиться в эти священные сумерки, чтобы там, в глубине глубин, встретить новое Солнце нового Дня.
Тень несозданных созданий
колыхается во мне,
словно лопасти латаний
на эмалевой стене.
Всходит месяц обнаженный
при лазоревой луне…
Звуки реют полусонно,
звуки ластятся ко мне.
В. Брюсов
Мы в дали отстояний поглядим.
И дали отстояний — станут дым.
А. Белый
Итак, 12 февраля 1861 года в доме генерального штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге родилась девочка, которой "суждена была слава в большом мире и полное забвение на родине".
Она была единственной дочерью и младшим ребенком в семье генерала Густава фон Саломе — сестрой пяти братьев. Так что чувство некоторой исключительности принадлежало ей уже по праву рождения — маленькая Леля сразу стала любимицей, ведь пятидесятисемилетний отец давно мечтал о маленькой девочке. И хотя мать большого семейства Луиза (урожденная Вильм), по собственному признанию, предпочла бы иметь еще одного сына, все же быстро присоединилась ко всеобщему культу.
Ее называли русской или наполовину русской. Но история рода была на самом деле сложнее. Самой Лу помог узнать корни этой истории Рильке. 23 октября 1909 года он написал ей из Парижа, что представители рода Саломе, вероятно, находились среди изгнанных из Авиньона гугенотов — это были внуки или сыновья нотариуса Андре Саломе (Рильке добавлял, что вид Авиньона, их былой родины, с другого берега напоминает Великий Новгород).
Эта информация попала к Лу, когда она порвала все связи с семьей и мало интересовалась историей рода. Тем не менее в ее семье бытовала несколько иная вариация этой истории: якобы происходившие действительно из авиньонских гугенотов Саломе покинули Авиньон после Французской революции, "после чего наш род долго еще пребывал в Страсбурге; затем мои предки пересекли границы Германии и очутились в Прибалтике, где в Миттау и Виндау простирался так называемый "малый Версаль". В моем детстве я часто слышала об этом рассказы домашних".
Так или иначе, в 1810 году шестилетний Густав Саломе оказался с семьей в Петербурге. На волне патриотических чувств после разгрома наполеоновской армии он поступил на военную службу и к двадцати пяти годам был уже в чине подполковника. "Николай I присвоил ему после польского восстания 1830 года, во время которого он смог отличиться, вдобавок к французскому русский потомственный дворянский титул. Большая гербовая книга со словами кайзера в ней, со старым гербом — красно-желтым и с поперечными полосами внизу, и над этим — с русским гербом с двумя косыми красно-желтыми полосами под головой с забралом, мне еще очень памятна из наших детских впечатлений; не менее памятна изготовленная по распоряжению царя для моей матери нарядная игла, имитирующая золотую почетную саблю, с которой свисали все ордена моего отца — в крошечном, но точном воспроизведении".
Помимо всего этого Густав Саломе был принят в генштаб русской армии и назначен статским советником.
Карьера его неуклонно шла в гору — при Александре II он исполнял обязанности инспектора русской армии.