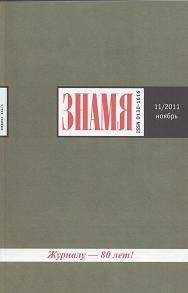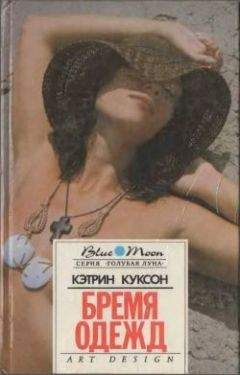Мне кажется, что именно с того дня я старалась выражаться точно, пытаясь ничего не добавлять, даже самую малость, хотя эта ограниченность, которую мне навязывали, меня страшно расстраивала".
Как оказалось, близкие Лу не проводили различия между мифом и ложью. После этого случая Лу поняла, что ей нужно изменить слушателя своих историй на бесконечно щедрого и доверчивого: свои сказки о подлинной жизни она начала рассказывать по вечерам в темноте Доброму Богу. "Я ему изливала легко, без понукания целые истории. Эти истории были особенными. Они возникали, мне кажется, из желания обладать властью, чтобы присоединить к Доброму Богу внешний мир, такой будничный рядом со скрытым миром. И совсем не случайно, если я заимствовала материал для своих историй в реальных событиях, во встречах с людьми, животными или предметами, — иметь Бога в качестве слушателя было достаточным основанием, чтобы придать им сказочный характер, который мне не нужно было подчеркивать. Напротив, речь шла только о том, чтобы убедиться в существовании реального мира. Конечно я не могла рассказать ничего такого, чего Бог в своем вечном всеведении и могуществе уже бы не знал; но это как раз и гарантировало в моих глазах несомненную реальность моих историй. Поэтому, не без удовлетворения, я начинала всегда с этих слов: "Как Тебе известно…""
В полном соответствии с классикой Эдипова комплекса Лу тянулась к отцу, который являлся для нее непререкаемым авторитетом, и с детства была отчуждена от матери. "Еще в очень раннем детстве моего отца и меня связывала некая неуловимая тайная нежность, о которой я лишь смутно припоминаю, что она исчезала при появлении Мушки (так в семье называли мать. — Л. Г.), которая не одобряла выражения чувств. В старых письмах моего отца к матери, в то время как она с младшими детьми находилась в заграничном путешествии, я прочитала после его смерти приписку: "Поцелуй за меня нашу маленькую девочку. Думает ли она еще иногда о своем старом папе?" Горячие воспоминания нахлынули на меня… Мне припомнились наши прогулки в ясные зимние дни вдвоем: повиснув на его руке, я полулетела огромными парящими в воздухе шагами рядом с его длинным спокойным шагом. При этом мы однажды повстречали одного из многочисленных русских нищих, и я хотела сунуть ему серебряную десятикопеечную монету, которую получила, чтобы учиться "правильно распределять деньги". Но тут мой отец пояснил мне: суть верного распределения состоит в том, что всегда достаточно половины того, чем обладаешь, вторая же половина неизбежно причитается ближнему. И он с серьезным видом разменял мне маленькую десятикопеечную монетку на два восхитительных крошечных серебряных пятачка".
И все же, несмотря на идиллический настрой, в эти воспоминания об отце вновь вторгается тема наказания. "Еще совсем юной я из-за странной болезни, которую называли "боль в результате роста", была временно ограничена в ходьбе и, получив в утешение мягкие красные сафьяновые сапожки с золотыми кистями, восседала, как на троне, на руке моего отца столь охотно, что дело кончилось плохо: так как я вследствие этого никоим образом не сигнализировала о прекращении болей, тот же самый нежный отец применил к тому же самому месту тела, которое прижималось к его руке, — с тяжелым сердцем, но непоколебимо, крепкие маленькие березовые прутья". Неслучайно, видимо, проблема амбивалентного воздействия наказания на детскую психику станет позднее предметом тщательного психоаналитического исследования, предпринятого Лу совместно с Анной Фрейд.
Впрочем, впоследствии Лу признавала, что в ее отношениях с обоими родителями отсутствовала — в сравнении с огромным большинством детей, из воспоминаний которых она позже с удивлением это обнаружила, — пылкость в проявлении чувств, будь то утешение или любовь. Всегда оставалось пространство некоторой дистанции… или свободы.
Более душевными и во всяком случае специфически русскими были ее воспоминания о кормилице и няне (кормилица в семье была только у Лели). "Моя кормилица, мягкая красивая женщина, была очень привязана ко мне. Позже, после того как она совершила паломничество в Иерусалим, она даже достигла "Малого Святого Причастия" — над чем мои братья громко хохотали и что меня сделало невероятно гордой за мою кормилицу. Русские няньки справедливо славились своими удивительными материнскими чувствами (хотя, конечно же, гораздо меньшим искусством воспитания), и не всякая родная мать могла бы в этом с ними тягаться. Среди них повсюду еще встречались отпрыски крепостных крестьян, и уже поэтому, воскрешая в памяти слово "крепостной", можно было бы испытывать благодарность. Вообще же русские слуги в нашей семье были изрядно разбавлены "нерусскими элементами": татарами-кучерами, (которым отдавалось предпочтение из-за их воздержания от спиртного) и эстонцами. В нашем доме смешались веры евангелическая, греко-католическая и магометанская, старый и новый календарный стили в отношении постов и выдачи жалования. Еще более пестрым все это было в результате того, что нашим загородным домом в Петергофе управляли швабские колонисты, которые в одежде и в языке строго придерживались своих образцов, действующих на давно покинутой швабской родине".
Словом, культурная гибкость, которая позволила Лу так органично влиться в европейский контекст, была во многом предзадана ее образованием и даже особенностями повседневного быта. Но в Лу надолго остался открытым вопрос ее подлинной культурной принадлежности. Годами она возвращалась к истокам, "врастала", как она выразилась, в свою "русскость". Когда двадцатилетняя Лу встретилась с Иваном Тургеневым, едва ли он увидел в ней характерный образ соотечественницы. (Интересно, могла ли Лу пополнить галерею "тургеневских" девушек? Ее фотографии той поры порождают ряд "тургеневских" ассоциаций: одухотворенность, неприступность, загадочность — казалось бы, все составляющие образа налицо… И все же какой-то компоненты "тургеневской" героини в ней недостает — быть может, чисто славянской жертвенности, самоотреченности?) Иностранкой она показалась и Льву Толстому. Однако же для Ницше и его окружения Лу была безусловно русской, таинственной чужестранкой. Скрывался ли за этим просто штамп восприятия, тяга европейцев к экзотике или нечто большее, заметное лишь постороннему глазу? Быть может, характерное сочетание мудрости и детскости? "Предельной серьезности мужчины и отважной беззаботности ребенка", по словам одной из ее подруг? "Все настоящие русские — это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете", — писал Рильке своей матери после знакомства с Лу. Но лишь его соучастие в "Великом Возвращении" откроет для нее Россию как просвет в сказочный мир. До этого Россия по большому счету оставалась для нее неузнанной.