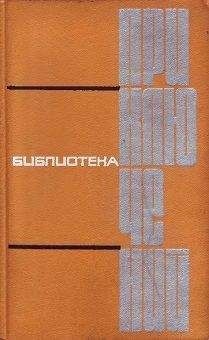Переводчик Джон Галепено.
Борис Соколов
На берегах Невы
Была ночь. Белая ночь. Конец июля. Я шёл по набережной вдоль дворца. Туман был плотный. Голоса приходили и уходили, приглушённые и как бы нереальные. Я спустился по каменным ступенькам, ведущим к реке, и сел на узкую каменную скамейку. Я ни о чём не думал. Белая ночь располагала к созерцанию. Это всегда было так. Я зажёг папиросу. Река была молчаливой и сонной. «Я рад, что ты здесь». Голос рядом со мной был низким и музыкальным.
Я повернул голову. На первой ступеньке сидел человек буквально в метре от меня. Человек с седеющей бородой, длинными волосами и улыбающимися глазами.
— Я не предполагал, — пробормотал я.
— Это не важно.
— Конечно нет, согласился я.
— Наша память… — он не окончил.
— Наша?
— Каждая. Очень странная.
— Да, действительно.
— Я полагаю, что наша память пересекает пространство и время.
— Не всегда.
— Всегда, — сказал он решительно. — Всегда.
— Возможно.
— Ночами, в своих снах я пересекаю столетия. Я путешествую в Афины, древние Афины. Я жму руку Сократа, смелого и высокомерного оратора. Я хожу по улицам Парижа. Я обсуждаю с Роджером Беконом его изобретения. Несчастный человек! Он умирает, но его ум живой, и глаза светятся. Внезапно я снова в своём родном городе, в Петербурге.
— Вы в действительности призрак?
Он засмеялся:
— Есть сомнения?
— Мне кажется, что я вас знаю.
— Вполне возможно.
— Ваша фамилия…?
— Николай Морозов.
Я вскочил:
— Нет, не тот…
— Да, именно тот старый Морозов, — он усмехнулся.
— Да я мечтал встретиться с вами, — Я заикался. — Я мечтал…
— И вот я здесь.
— Я хотел бы вас спросить… могу я?
— Всё, что угодно сынок.
— Как вы выдержали. Как вы пережили двадцать лет в одиночном заключении? Или это было больше?
— Немного больше. На чуть-чуть. Двадцать один год и сто тридцать два дня.
— Вы что, считали дни?
— Конечно, все считают, на стенке камеры. Это помогает.
— Это ужасно. Всё наедине с самим собой.
— Первый год. Да. Я был молод, когда меня приговорили к смерти.
— Вы были поэтом. Я читал о Вас. Ваша трагическая судьба. Вы были невиновны.
— Нет, молодой человек, я был виновен. Я был вовлечён в заговор, убить царя.
— Вы же не убили его! — я вскричал. — Это было жестоко приговорить Вас к смертной казни.
— Жестоко? Я не знаю. Когда окончательный приговор огласили, сначала я был рад, даже счастлив. Вместо смерти — жизнь в Шлиссельбургской смерти. Я почти пел. Я писал поэму первое время, когда был в крепости.
— Всё время один?
— Всё время один.
— Все двадцать один год?
— Я не видел никого, кроме тюремщика.
— Я бы не смог пережить пытку одиночества, — сказал я.
— Вполне возможно, что смог.
— Многие из Ваших друзей умерли прежде, чем Вы получили освобождение.
— Некоторые, да. Некоторые выжили.
— Вы должно быть обижены. Полны ненависти против тех, кто послал вас в эту ужасную крепость. Однажды я видел её издалека.
— Обижен? О, нет, сынок, — его улыбка была завораживающей. — Нет обиды или злобы в моём сердце. И почему должна быть? Да, сынок, после четырёх месяцев одиночного заключения я потерял силу духа. Зима была свирепой. В камере было влажно. Окно, маленькое окошечко под потолком было покрыто льдом. Я не мог видеть реку, эту реку и небо. Я был молод. Я не был подготовлен к этому испытанию. Я терял рассудок, или думал, что теряю. Ужасная всепоглощающая тишина враждебной крепости. И затем…
— Что затем?
— Затем было чудо.
— Чудо… настоящее чудо?
— Конечно, нет. Нет чудес кроме неистощимой, жизненной силы человеческой души.
— Я Вас не понимаю, — пробормотал я, вконец сконфуженный.
— Тебе и необязательно. Я имею в виду, что почему ты обязательно должен всё понимать?
— Я бы хотел больше знать.
— Это придёт.
— Я перебил Вас?
— Да, перебил. Ты нетерпелив. Твоё нетерпение может принести тебе много несчастий и горя.
— Я знаю. Знаю, — пробормотал я.
— Ты даже будешь нетерпелив умереть, сынок, в спешке.
— Да?
— Что за жалость, жить завтрашним днём вместо сегодняшнего.
— Но в тюрьме, разве вы не жили для завтра?
— Нет. Я не жил, я наслаждался каждой минутой, что был там.
— Но, Вы только что сказали…
— Я сказал, первые месяцы, первый год, а затем я обрёл своё счастье.
— Счастье? В одиночном заключении? Человек, обречённый на медленное умирание…?
— Счастье в звёздах!
— В звёздах?
— Да, в звёздах. Это так просто, это было предназначено. В библиотеке крепости я нашёл книгу по астрономии, старую книгу, великолепно изданную, с небом, звёздами, планетами, и их описаниями. Я был заворожён. Это открыло мой ум, конвульсировавший земными событиями. Сынок, я думаю, что ты поймёшь. Я читал и перечитывал книгу. Я ничего не знал о вселенной, той, которой за нашей планетой. Я попросил разрешения купить телескоп. Недели прошли, пока он прибыл. Я смотрел в небо. Когда было ясно, я входил в совершенно неведомый мир. Внезапно, за одну ночь, положительные эмоции вновь охватили меня. Незначительность нашего существования на земле. Существование нашей планеты и моё собственное, существование осуждённого человека. Ты наверно не поймёшь.
— Я постараюсь, — запротестовал я.
— За одну ночь я переменился. Моё отчаяние, моя агония изоляции, моя слабость — всё исчезло. Я обрёл покой в душе. Я обрёл желание жить. Все мои несчастья стали незначительными до смешного. Я был нетерпелив проникнуть в тайну нового мира, дотоле неизвестного мне, мира бесконечного пространства и бесчисленных звёзд.
— Я понимаю Вас, я понимаю.
— Нет, ты не понимаешь. Ты когда нибудь задумывался, что-то пространство, которое ты видишь как небо не имеет конца? Солнце — да. Звёзды — да. Но после них разве не должно быть какого-то конца? Днями я был погружён в своё открытие. Я отказался есть. Я даже не мог пить воды. Потом я начал, но это всё не было протестом или выражением недовольства. Я, человек — мельчайшая молекула огромной вселенной бесчисленных звёзд и бесконечного пространства.
Он остановился.
— И…?
— Я продолжал занятия астрономией.
— Я знаю. Я читал, что Вы открыли звезду.
— Да, я открыл, но много позже, после пятнадцати лет пребывания в крепости.