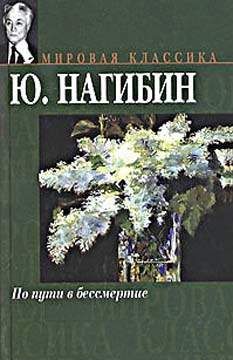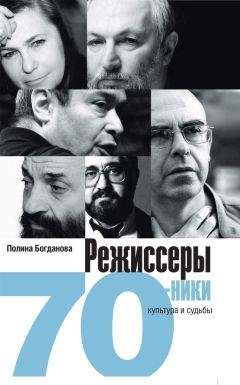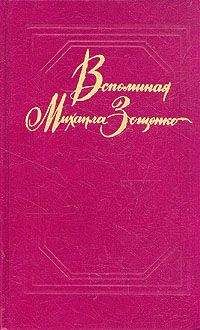— А вы написали бы просто «какой-то человек», — подал я полезный, но несколько запоздалый совет.
— Это никуда не годится. Каждый человек чем-то отмечен, ну и отделите его от толпы. Плохие литераторы непременно выбирают увечье, ущерб: хромой, однорукий, кособокий, кривой, заика, карлик. Это дурно. Зачем оскорблять человека, которого вовсе не знаешь? Может, он и кривой, а душевно лучше вас.
Несколько лет назад Твардовский почти дословно говорил мне то же самое. Замечательна ответственность больших писателей за каждое слово, и замечательна их вера в жизненную реальность создаваемых ими образов. Зачем плодить уродов без крайней художественной надобности? Следует сказать, что в посмертном двухтомнике М. Зощенко усатый грубиян превратился-таки в «какого-то человека». Редактор трогательно защитил Сталина от «клеветнических инсинуаций». Милые соотечественники, что с вами творится? Почему так упорно не желаете развеять гнилостный туман?.. Когда мы уходили, Михаил Михайлович сказал:
— А вы хотите дочитать «Перед восходом солнца»?
— Еще бы!
— У меня нет сейчас рукописи. Но в следующий ваш приезд она будет.
Он, кажется, поверил, что я знаю наизусть его рассказы…
Я едва дождался нового вызова в Ленинград. Конечно, ничего не стоило приехать просто так, ради свидания с Михаилом Михайловичем, но почему-то мне казалось это неделикатным.
Трудно объяснить причину этого чувства. Если б киношники (я по этой части ездил в Ленинград) вызвали меня на следующий день после возвращения в Москву (в кино такое случается сплошь да рядом), я бы с чистой совестью позвонил Зощенко: видите, как мне повезло, не успел уехать — и снова здесь… Но явиться даже через месяц просто так, придравшись к любезному обещанию, казалось мне бестактным. Сейчас я сам не понимаю этой моральной казуистики, но так было…
Лишь через три месяца я снова оказался в Ленинграде. И вот один в пустом номере, с трудом удалив моих многочисленных приятелей, я звоню Михаилу Михайловичу. Конечно, его не окажется дома, он уехал в Дом творчества или в Москву по делам, ведь его вновь издают, или заболел, или просто не подходит к телефону. Знакомый тихий голос произнес в самое ухо:
— Слушаю.
Молниеносно в душе проигрывается вариант удачи: он приглашает меня к себе; промельк короткого пути от «Европейской» до канала Грибоедова, знакомый дом, кошачий подъезд, медленный лифт, звонок, дверь открывается… маленькая фигура в байковой куртке, темные глаза с лиловыми подглазьями, узкая улыбка…
— Михаил Михайлович, здравствуйте, это Нагибин… Да сегодня. Опять по киношным делам… Михаил Михайлович, беру на себя смелость напомнить о вашем обещании… — После долгой паузы: — Неужели вы не забыли?.. Ну конечно!..
Его голос не стал еще тише, не отдалился, но прозвучал словно из-за края света, из бесконечной дали смертельной усталости и отчуждения:
— Видите ли… я не нашел рукописи.
Как плохо лгут правдивые, чистые люди. Не только у профессиональных лгунов, но и у обычного порядочного человека, прибегающего ко лжи лишь в крайних случаях, в голосе присутствует хотя бы намек на искренность, но у Зощенко это прозвучало до того фальшиво и неестественно, что у меня свело скулы. При всем нежелании показать, что я ему не верю, при всей боязни обидеть огорчить я не смог хорошо выйти из положения.
— А-а… Ну ладно, — сказал я деревянным голосом. — Что ж поделать. Простите.
Он что-то говорил, просил не то звонить, не то заходить — это все уже не играло никакой роли: я знал, что не позвоню, не зайду. Мне смертельно было жалко себя и еще больше его.
Мой отчим Як. Рыкачев хорошо писал о Зощенко, очень любил его, он был единственным человеком, которому я рассказал о том печальном звонке.
— Он должен был дать рукопись. При тех отношениях, что сложились… Даже с риском… Тем более за всеми своими страхами он знает, что никакого риска нет. Как же его запугали! Бедный, бедный Михаил Михайлович!..
Я думал, что больше не увижу Зощенко. Однажды, когда мне передали его на редкость теплые слова в мой адрес, сказанные к тому же публично, у меня мелькнула мысль позвонить ему, да рука не поднялась набрать номер. А потом Зощенко не стало. Он умер летом 1958 года, в день моего приезда в город.
Едва сойдя с поезда, я окунулся в слухи и пересуды. Будет гражданская панихида или не будет? Выставят гроб с телом покойного в ленинградском Доме писателей или не выставят? Дадут некролог в газетах или не дадут? Потом разнесся слух, что Зощенко запретили хоронить в черте города, и Анна Ахматова дала телеграмму в Москву, чтобы разрешили положить писателя на Литераторских мостках Волкова кладбища. Кажется, разрешили… Нет! Господи, что за окаянные души — отказали!.. Власти в растерянности, не знают, что делать! Чепуха! Подпольный ленинградский обком действовал весьма целеустремленно. В 1958 году разыграли зловещий спектакль, достойный черных ждановских дней. А ведь уже состоялся Двадцатый съезд партии! И речь шла о всемирно известном писателе, гордости русской литературы, о тяжело и несправедливо пострадавшем человеке, жертве сталинского произвола, ни в чем не виноватом ни перед народом, ни перед властью. И тщетны были все попытки Ахматовой и ее друзей вернуть достоинство — не Зощенко, он его не терял, а времени, которому вовсе не к лицу было принимать на себя чужие грехи.
Не следует думать, что Ленинград бурлил. Обывателям было неведомо об уходе великого земляка — смерть Зощенко держали в секрете. Ни в газетах, ни по радио — ни слова.
Гражданскую панихиду все же разрешили, но опять же втайне от широких трудящихся масс. Дом писателей был битком набит, несмотря на летнюю опустелость города. У меня клаустрофобия, и толпа мне столь же невыносима, как замкнутое пространство. Тем не менее я проник внутрь и оказался свидетелем тяжелой сцены. Председатель Ленинградского отделения СП Александр Прокофьев в своем прощальном слове допустил весьма неловкий пассаж, а может, то была безотчетная душевная грубость, а может, еще хуже — сознательное, предписанное сверху хамство: он что-то вякнул о предательстве Зощенко. И раздался высокий, сорванный крик жены покойного:
— Михаил Михайлович никогда не был предателем! Он мог уехать, его звали. Но он не оставил Родины!..
Она рыдала. Все это обернулось прибытком духоты — не физической, а душевной, и я опрометью кинулся на раскаленную улицу. Здесь уже собралась толпа, простершаяся на невскую набережную, растекшаяся в оба конца по улице Воинова. Все предосторожности властей предержащих не сработали. Михаил Михайлович уходил в свой последний путь прилюдно.