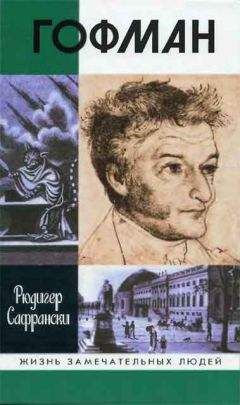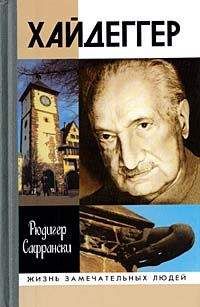Гофман влюбился в Мишу, однако о браке даже не помышлял. Как сообщает Хитциг, Гофман сам рассказывал ему, «что его будущая жена сначала привлекла его тем, что уже была почти обручена с другим человеком, от которого он ее увел». Схожие воспоминания имеются и в «Записках» Шварца от 1828 года. Он пишет, что Гофман тогда «был влюблен в свою будущую жену, польскую красавицу Михаэлину Рорер, однако при этом был бы не прочь обладать красивой девушкой, не связывая себя узами брака. Между тем моя Дорис и ее сестра взяли ее под свою защиту, так что вся эта история сделалась достойной настоящего романа, и дорога Гофмана к достижению цели в конце концов пролегла через церковь, сколь бы он ни старался пробираться окольными путями». Этот «настоящий роман» Гофман собирался в 1820 году написать сам, придумав ему название «Предсвадебный медовый месяц Якобуса Шнельпфеффера». Он должен был стать, как однажды заметил Гофман, его лучшим произведением, однако работа в апелляционном суде и другие писательские замыслы не позволили ему осуществить задуманное.
«Предсвадебный медовый месяц» начался весной 1802 года. В конце февраля того года Гофман узнал, что в скором времени состоится назначение его на должность правительственного советника суда в Познани. Главный канцлер Гольдберг в Берлине одобрил это назначение. Очевидно, влиятельный берлинский дядюшка Гофмана извлек из своей дружбы с Гольдбергом пользу и для племянника. Ситуация складывалась таким образом, что нельзя было долее откладывать принятие решения: правительственный советник с окладом в 800 рейхсталеров мог считаться достойным женихом и в зажиточной буржуазной среде, так что у Гофмана теперь уже не было убедительной причины и дальше тянуть со свадьбой. Ему надо было решаться.
В начале марта 1802 года он обращается в письме к Минне Дёрфер с просьбой считать их помолвку расторгнутой. Это решение далось ему очень нелегко, ибо он, естественно, не мог не предвидеть, что все его родственники обрушат на него свои проклятия. Вместе с тем он ощущал и «разлад с самим собой» (письмо Гиппелю от 25 января 1803 года). У него была причина упрекать самого себя в том, что из-за собственной боязни принять решение он так долго понапрасну обнадеживал Минну. По меркам того времени, за четыре года, прошедшие с момента обручения, она превратилась в «старую деву». И действительно, Минна так и не выйдет замуж.
Гофман пытался оправдаться перед Гиппелем, моральное суждение которого так много значило для него: «Если бы я писал эту автобиографию с добросовестностью Руссо, намеревавшегося предстать перед судом вечности со своей „Исповедью“ под мышкой, то Минна Дёрфер дружески протянула бы мне руку — не для примирения, нет, ибо я был безвинен, когда все проклинали и бранили меня за неверность. С большим усилием я разорвал отношения, которые сделали бы несчастными и ее, и меня» (весна 1803). Гофман, несомненно, прав, только осознать это следовало бы значительно раньше. Однако ему потребовалось сначала стать правительственным советником и найти другую женщину, прежде чем прийти к подобному осознанию.
В то время, когда принималось столь трудное решение (февраль — март 1802 года), у Гофмана еще нашлось настроение и желание принять участие в карнавальном розыгрыше. Для него это имело самые серьезные последствия — и вот еще один пример того, как он, будучи не в ладу с самим собой, в горестные минуты жизни мог безудержно предаваться сатире и шуткам. Во время карнавального бала-маскарада прусской колонии в Познани, растянувшегося на три вечера, произошел громкий скандал. Уже в первый вечер, 28 февраля 1802 года, появились в масках продавцы карикатур, в которых была отражена chronique scandaleuse[28] Познани. Каждый смеялся, но лишь до тех пор, пока не замечал, что и над ним тоже смеются. Продавцы картинок постарались, чтобы никто не получил сразу же в руки карикатуру на самого себя. В карикатурах высмеивались высокопоставленные особы города. Не составляло никакого труда узнать генерал-майора фон Застрова, который созывал гостей на свои эксклюзивные вечерние посиделки, выстукивая барабанную дробь чайной ложкой, или его супругу, изображенную в виде танцовщицы на чрезмерно высоких каблуках в окружении зрителей, у которых от скуки вытянулись лица. Сухопарый председатель Палаты военных и домениальных имуществ карикатурно изображался как импозантный генерал Кюстин, которого революция, как известно, отправила на гильотину. На другой карикатуре инвалиды несли в корзине на бал молодцеватых офицеров. Можно было также видеть, как почтенные члены юнкерских семейств наперегонки бегут в долговую тюрьму.
Как только в руки генерал-майора фон Застрова попала карикатура на него самого, веселье тут же прекратилось. Он отдал приказ схватить торговцев картинками, но тех и след уже простыл. Им, однако, хватило смелости появиться и на следующий вечер, чтобы раздать гостям длинные носы из папье-маше. И на сей раз им удалось благополучно избежать задержания, что дало повод для пересудов о том, что начальник полиции фон Бредов, не ладивший с начальником военного гарнизона фон Застровом, сознательно покрывает «пасквилянтов». В третий вечер появился некто нарядившийся посыльным апелляционного суда с объявлениями, оповещавшими публику о дерзком поступке торговцев карикатурами и призывавшими заявлять на злодеев. И этому посыльному апелляционного суда также удалось уйти.
О том, кто устроил эту проделку, было известно, хотя прямых доказательств и не имелось: «пасквилянтами» считались Гофман и его «веселое братство», к которому принадлежали правительственный советник Шварц, следователь и будущий свояк Гофмана Готвальд и асессор Альбрехт.
Из воспоминаний Шварца мы узнаем, что именно Гофман рисовал карикатуры. Он и сам признавался Гиппелю в участии в этой проделке, делая особый упор на констатацию того факта, что его не удалось изобличить.
Эта скандальная история имела свою подоплеку. Уже давно в городе подспудно тлел конфликт между гражданскими чиновниками, в большинстве своем представителями простого сословия, и аристократами военными. Гражданские чиновники из-за высокомерия привилегированного офицерства чувствовали себя в ущемленном положении. Генерал-майор фон Застров, до мозга костей представитель старого режима, строго следил, например, за тем, чтобы на официальные мероприятия прусской колонии допускались только гражданские чиновники высокого ранга. Это вызывало раздражение среди обойденных, тем более, что, как писал Шварц в своих воспоминаниях, «принципы Французской революции и в Германии уже пустили столь глубокие корни, что любые проявления аристократизма были крайне ненавистны молодежи».