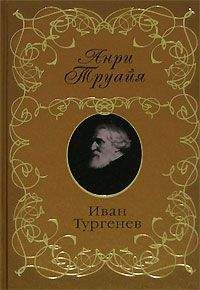Едва вышедшая из печати книга настроила против него равно и революционеров, и консерваторов. Революционеры были возмущены ясным и жестким анализом поражения одного из своих собратьев. Консерваторы упрекали автора в том, что выказал излишнюю симпатию к такому герою, как Соломин, взгляды которого носили подрывной характер. Что касается нейтральных критиков, то они сожалели об обличительном стиле романа и отсутствии правды в образе Соломина, который, как когда-то «болгарин», был воплощенной в образе идеей, деревянной марионеткой, послушной воле автора. Песковский в «Русском обозрении» утверждал, что «Новь» являла собой нагромождение ложных идей, искусственных лиц, что поведение героев похоже на поведение «детей, играющих в революцию». Марков в «С. -Петербургских ведомостях» писал, что автор «обманул общие ожидания как художник», ибо в романе нет «ни богатства поэтических красок, ни былой выразительности и рельефности характеров, ни даже увлекательного и живого рассказа». Маркович в «Голосе» обвинял Тургенева в жестокости «к матушке-Руси православной». А критик «Пчелы» бросал ему в лицо, что «вся „новь“, появляющаяся в романе, очевидно, не была наблюдаема, или круг наблюдений был до крайности сужен: до такой степени фигуры этих молодых людей бледны, не типичны, фальшивы; язык, которым они говорят, не их язык <<…>>; характеры непонятны, искажены».
Тургенев ожидал подобного потока протестов. Уже до публикации «Нови» он писал Салтыкову: «Не о „лаврах“ я мечтаю – а о том, чтобы не слишком сильно треснуться физиономией в грязь». (Письмо от 17 (29) сентября 1876 года.) А в письме к Полонскому признавался: «Какая бы ни была ее окончательная судьба – это мой последний самостоятельный литературный труд; это решение мое бесповоротно: мое имя уже не появится более. Чтобы не отстать от привычки к перу – я, вероятно, займусь переводами». (Письмо от 18 февраля (2) марта 1877 года.) Тем не менее сила некоторых выпадов глубоко ранила его. Хулимый на родине, он страдал от своего ложного положения во Франции, от своего ложного положения в отношениях с русской молодежью и от своего ложного положения в семье Полины Виардо. Куда бы он ни оборачивался – он всюду был гостем, временным человеком. Русская земля, которую он так любил, уходила из-под его ног. Он балансировал между двумя – даже тремя отечествами, между двумя – даже тремя языками. Он не принадлежал никому. Был гражданином ниоткуда. И единственное утешение находил рядом с французскими друзьями, которые боготворили его.
Этот продолжительный парижский период осветили многочисленные встречи с писателями кружка, путешествиями в Круассе к Флоберу, в Ноан к Жорж Санд, рождением дочери, а затем сына у Полины Брюэр – Жанны и Жоржа-Альбера, свадьбой Клоди Виардо с Жоржем Шамеро, дружбой с революционером-эмигрантом Лавровым, газете которого «Вперед» он согласился оказывать денежную помощь. Его политические взгляды становились все более либеральными. Он обвинял Францию в том, что она стала фальшивой республикой, которая отреклась от своих принципов. После того как он поприсутствовал в Версале на заседании Национальной Ассамблеи, во время которого было решено дать семь лет пророгации[33] власти Мак-Магона, он написал 19 ноября 1873 г. Флоберу: «Итак, дорогой друг, со вчерашнего дня у вас военная диктатура. Вы, как мне сказали, макмагонец. Мне всегда казалось, что лучше быть просто французом, но я могу и заблуждаться. <<…>> Третьего дня я побывал в Версале и вернулся оттуда, испытывая отвращение и грусть».
Подобный страх перед эксцессами власти разделяли Виардо, которые проявляли во всех обстоятельствах благородство, независимость и оставались антиклерикалами. Их дом стал в короткое время центром притяжения для космополитов. Они принимали всех великих представителей литературного и артистического мира. Одетая обычно в элегантное с черным кружевом платье, Полина Виардо садилась за пианино, чтобы разобрать какую-то партитуру, которую ей только что принесли. Стоявший рядом Тургенев, надев монокль, читал одновременно с ней ноты. Он не любил новых тенденций в музыке и, по словам Антона Рубинштейна, который был завсегдатаем салона, гневно критиковал высоким, «почти женским голосом» некоторые отрывки. Иногда к матери присоединялись Клоди и Марианна и пели в три голоса, восхищая присутствующих. Воскресными вечерами ставили комедии, танцевали, разыгрывали шарады и живые картины. Тургенев страстно любил эти развлечения. Однако они отвлекали его ненадолго, они не могли рассеять то глубокое чувство горечи, которое было в его характере. Кроме тревог, которые вызывала французская политика и частые приступы подагры, мешавшие ему работать и строить планы на будущее, постоянно, назойливо напоминало о себе неприятное понимание того, что он не был любим своей собственной страной. Он несколько раз ездил в Россию и возвращался оттуда всякий раз разочарованный. В Санкт-Петербурге, в Москве, даже в Спасском он уже не был у себя дома. Он испытывал физическое удовольствие, вдыхая воздух родины, и с грустью замечал молчаливые упреки своих соотечественников. В 1872 году он согласился на то, чтобы московский Малый театр поставил его пьесу «Месяц в деревне», написанную около двадцати лет назад. Она была плохо принята публикой и критикой. Все в один голос нашли ее скучной. «Моя комедия должна была получить фиаско, – писал Тургенев своему брату Николаю, – оттого я и бросил (с 1851 года) писать для сцены: это не мое дело». (Письмо от 5 (17) февраля 1872 года.) Если в России его судили строго, то он и сам мог при случае быть строгим по отношению к своим русским собратьям. Большие успехи в литературе рождали сомнения. Даже «Анна Каренина» Толстого не оправдала его ожидания: «С его талантом забрести в это великосветское болото и топтать и толкаться там на месте – и относиться ко всей этой дребедени не с юмором – а, напротив, с пафосом, серьезно – что за чепуха! Москва загубила его – не его первого, не его последнего. Но жаль его больше, чем всех других». (Письмо к Топорову от 20 марта (1) апреля 1875 года.)
Его пренебрежительная оценка несчастий Анны Карениной казалась ему тем более оправданной, что он считал себя, исходя из продолжительного жизненного опыта в отношениях с женщинами, своего рода экспертом в сердечных делах. Ведь даже в своем возрасте – больной, мрачный и усталый – он мечтал о новой любви. Разочарованный отношениями с Полиной Виардо, он увлекся в конце 1873 года молодой баронессой Юлией Вревской. Этой женщине было 35 лет, она была красива, свободна и мечтала разделить жизнь с незаурядным человеком. Однажды ей показалось, что она нашла его в этом знаменитом пятидесятишестилетнем романисте, который в Спасском читал ей стихи, целовал, вздыхая, руки. «Мне не нужно распространяться о том чувстве, несколько странном, но искреннем и хорошем, которое я питаю к Вам, – писал он ей. – Вы это все лучше меня знаете». (Письмо от 6 (18) апреля 1874 года.) И еще: «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными – а главное – свободными людьми… Докончите фразу сами…» (Письмо от 9 (21) сентября 1874 года.) Он увидел ее снова в Париже, в Карлсбаде и во время одного из своих пребываний в России. При каждой встрече он с сожалением думал об унизительных ограничениях своего возраста. Он мечтал об интимной, физической близости, однако тело его не желало волноваться. Это противостояние души и тела истощало его. Ища забвения, он говорил с Юлией Вревской о своих горестях мало любимого писателя: «Смотрю на литературную свою карьеру как на поконченную. Но ведь и без литературы жить можно – и есть вещи в жизни, которые кусаются (особенно под старость) гораздо больнее, чем какое угодно литературное фиаско». (Письмо от 15 (27) января 1877 года.) На следующий день, набравшись смелости, он писал ей: «Очень бы мне хотелось провести несколько часов с Вами в Вашей комнате, попивая чай и поглядывая на морозные узоры стекол… нет, что за вздор! – глядя Вам в глаза, которые у Вас очень красивы – и изредка целуя Ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя и велики… но я такие люблю». (Письмо от 1 (13) февраля 1875 года.) И еще: «Чувствую, что стареюсь, и нисколько меня это не радует. Напротив. Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь несуразную штуку… Не поможете ли?» (Письмо от 5 (17) октября 1875 года.) Наконец, еще более определенно: «С тех пор, как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески – и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько сильно необузданно (да уж и не молодец я был), чтобы попросить Вашей руки, – к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade[34] – вот Вам и объяснение моего поведения. Вы хотите уверить меня, что Вы не питали „никаких мыслей“; увы! Я, к сожалению, слишком был в этом уверен. Вы пишете, что Ваш женский век прошел; когда мой мужской пройдет – и ждать мне весьма недолго – тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья, потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло и несколько жутко при мысли: ну, что если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски?.. Ну, вот Вам и исповедь моя». (Письмо от 26 января (7) февраля 1877 года.) Эта исповедь глубоко взволновала молодую женщину, однако она также считала, что их идиллия началась слишком поздно. Странно. Так бывало всегда: любовь касалась Тургенева – и исчезала. Он с грустью возобновит попытку: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад – если бы Вы захотели… Теперь – увы! время прошло и надо только поскорей пережить междуумочное время – чтобы спокойно вплыть в пристань старости». (Письмо от 8 (20) февраля 1877 года.)