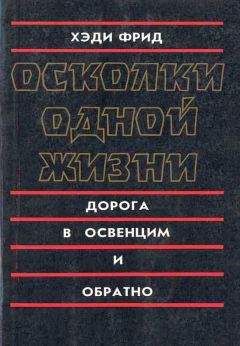Свобода. Я не могла полностью осознать, что это значит. Но одно я знала: я жива, хотя была мертва. Я умерла в ту ночь 17 мая 1944, в ночь, когда мы прибыли в Освенцим. Но теперь я опять живу. Мне дана вторая жизнь. С этих пор я буду праздновать день своего рождения 15 апреля. Кто знает, какое будущее ждет меня? Что бы ни случилось, я буду уже другим человеком, в котором не осталось ничего от девушки, родившейся в один июньский день 1924 года в Сигете.
На рассвете следующего дня все уже поднялись со своих нар. Несмотря на слабость, мы вышли во двор, чтобы узнать, что случилось. Каждой руководило нечто более сильное, чем разум. Большинство отправились искать пищу и питье. Я же искала отца. И это еще раз спасло мне жизнь.
Мы были истощены и высохли, как скелеты. Британские солдаты смотрели на нас с отвращением и жалостью, не веря своим глазам. И не мудрено. Эти ходячие скелеты — «мусульмане», как мы себя называли, имея в виду факиров, — разве мы были похожи на человеческие существа? Им никогда не приходилось видеть ничего подобного. Они освобождали военнопленных, но не живые мощи. Они хотели помочь, и когда у них просили пищу, давали ее щедро. Они отдавали свои пайки — мясные консервы, бобы, густые супы, питательную тяжелую пищу, пригодную для солдат. Они были полны сочувствия. Откуда им было знать, что голодающим людям нельзя есть такую пищу? Несомненно, отдавая все, что у них было, они были рады видеть, как мертвые глаза оживают радостью и благодарностью. Но для желудков тех, кто принял их дары, это было смертельно опасно. У всех начался понос. Многие умерли.
Тогда мы не понимали, отчего все это. Пронесся слух, что немцы отравили наш последний хлебный паек или положили в него толченое стекло. Только много позднее я узнала, что причиной были питательная еда и грязная вода. Теперь, когда не было охраны, все пили из луж.
Я не могла думать о пище и питье и потому не воспользовалась питательными британскими консервами. Один добрый солдат дал мне немного свеклы и, подкрепившись, я начала бродить кругом. Ворота, разделявшие соседние лагеря, были разбиты, и я ходила из барака в барак. Я встретила несколько мужчин из Сигета, но они ничего не знали о моем отце. Я также увиделась с сестрой парня, с которым раньше дружила, Пуей. Она лежала при смерти на куче тряпок, кишевших вшами. Пуя слабо улыбнулась, показывая, что узнала меня. Когда я обещала, что приду к ней на следующий день с едой, мылом и одеждой, в ее глазах вспыхнула искра надежды. Но на следующий день она уже была мертва.
Я не нашла своего отца, но я нашла Михаила. Он сидел у костра и пек пять картофелин, которые дал ему солдат. Увидев меня, он отдал мне три из них. Его привезли, в Освенцим тем же транспортом, что и нас. Он рассказал, что моего отца отправили на левую сторону, а привет из пекарни нам прислал дядя Алекс, единственный из всех братьев и сестер моего отца, кто выжил.
Итак, мой отец также погиб. Я не могла плакать. У меня не оставалось слез. Я их все выплакала.
Бродя по лагерю, я заразилась. У меня начался кашель и лихорадка, но я не хотела признаваться, что больна. Так много надо было сделать теперь, когда я обрела свободу. Необходимо организовать доставку еды, одежды, самого необходимого. Я работала, пока не свалилась. Не было армейских врачей, поэтому Ливи разыскала одного из наших, освобожденного заключенного, который работал врачом до войны. Сам он был больше похож на мертвеца, чем на живого, ослаблен дизентерией, очень истощен. С трудом он дотащился до моей постели, бегло осмотрел и поставил диагноз — тиф. Большинство заключенных теперь были больны тифом. Мне было очень плохо и хотелось услышать, что мои опасения преувеличены.
Я сказала:
— Кажется, я умру, сердце так сильно бьется, как будто хочет выскочить изо рта.
Он посмотрел на меня с жалостью, но не стал утешать. Я прочла в его глазах: «Мне жаль тебя, но когда так много умирающих, какое имеет значение, что будет одним больше».
Я повернулась к стене и стала ждать смерти. Жар усилился, и мне казалось, что я лечу на огромном шаре, который становится все больше и больше. Мы летим, и я знаю: когда он лопнет, я тоже исчезну. Я плавала в холодном поту. Что было после, я плохо помню. Но проснувшись однажды утром, я почувствовала, что жива.
Затем я долго выздоравливала. Ливи ухаживала за мной с удивительным терпением. Моя маленькая сестра стала взрослой за одну ночь. Она доставала еду, варила мне питательные супы и выхаживала меня, пока я не окрепла. Не знаю, сколько продолжалась моя болезнь, но Ливи удалось поставить меня на ноги. Она заставила меня подняться и сделать несколько шагов. Я научилась опять ходить. С каждым днем мне становилось лучше, и я наконец выздоровела. Только тогда я узнала, что мы уже не в бараках, нас перевели в бывшие солдатские казармы за пределами лагеря. Затем пришло известие, что весь лагерный комплекс англичане сожгли.
Оккупационные власти занялись нами. Нам ежедневно давали хорошие порции хлеба и дважды в день суп. Но нелегко было утолить наш голод. Нам требовалось все больше. Чтобы достать дополнительную пищу и что-нибудь еще сверх самого насущного, я решила найти работу. Я слышала, что англичане щедры к тем, кто помогает в работе администрации лагеря. Я немного знала английский, поэтому отправилась к начальству и спросила, не нужен ли переводчик. Да, нужен. И меня послали в отдел социального обеспечения, где работали женщины под руководством миссис Монтгомери, родственницы известного генерала. Меня приняли в качестве переводчицы с венгерского на английский и с английского на венгерский. Давали также отдельные поручения по уборке, в качестве посыльной, по приготовлению чая. Я надеялась, что мне перепадет от богатого стола. В первый же день мои надежды оправдались. Мне позволили отнести домой все, что осталось после чаепития леди. Когда я принесла молоко, сэндвичи, джем и кусок кекса, то в глазах моих подруг выглядела кем-то вроде Деда Мороза.
Наша семерка держалась вместе с самого отъезда из Гамбурга и образовала маленькую семью. Поскольку я нашла работу, на меня смотрели как на кормилицу. Мы разделили обязанности. Тери, которая хорошо готовила, выполняла роль матери, а остальные сестры помогали соответственно своим способностям.
Самым ценным в это время были сигареты. Курящие жаждали получить что-то настоящее вместо самодельных папирос из листьев и газетной бумаги. Сигареты «Кэмел» и «Филип Моррис» казались сказочным сном. Те из нас, кто не курил, продавали за дорогую цену все, что удавалось достать. Солдаты платили хорошо. Вскоре сигареты стали валютой. За них можно было купить все, что угодно. Ломоть хлеба стоил пять сигарет, кусок мыла — десять. Я не курила и собирала все сигареты, которые мне попадались. По вечерам мы садились около моей кровати, вынимали нашу картонную коробку и пересчитывали свое имущество. Вырученные деньги мы тратили главным образом на еду, иногда на покупку одежды. В ближайших деревнях удавалось найти кое-какие продукты и одежду. Мы не считали это воровством. У нас отняли все, что мы имели, и теперь мы только брали немного взамен, чтобы прикрыть тело и наполнить вечно голодный желудок.