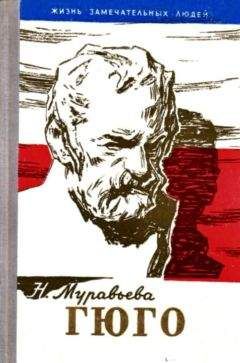— Дело большое, — вздохнул Постников, — ведь от условий многое зависит, равно и от цены. Понимаете, Александр Иванович, чем дороже станут мне бумаги, тем меньше средств останется на издание, значит, тем дольше все дело затянется.
— Что ж, — подумавши, сказал Герцен, — примерный контракт, или, так сказать, проект условий, я составлю. Насчет цены придется пригласить одного надежного эксперта. Словом, я полагаю дело решенным, остается только техническая сторона… А теперь извольте-ка с нами откушать!..
Александр Иванович вышел в смежную комнату, вполголоса переговорил там с женой, а затем повел гостя, который особенно и не пытался отнекиваться, в третью комнату, служившую столовой.
Вошла дама — Наталья Алексеевна, с нервным острым лицом, коротко остриженными волосами, заметно тронутыми сединой, в темном шерстяном платье с кружевной отделкой. Ей пришлось задержаться в дверях, чтобы поторопить дочь Лизу, живую одиннадцатилетнюю девочку, одетую с подчеркнутой тщательностью, с гладко зачесанными, заплетенными в две косички русыми волосами. Герцен представил супруге гостя, и тот поцеловал Наталье Алексеевне руку, а здороваясь с Лизой, улыбнулся ей дружески и ободряюще. Все уселись за стол, сервированный весьма заботливо, со множеством ножей, особых вилок, рюмок и целым набором тарелок, салфеток крахмальных и мягких, особенных пробок для початых бутылок; подан был трех сортов сыр, холодные рыбные закуски, грибной жюльен и русская икра. Было видно, что и Лиза, и ее мать давно привыкли к обществу посторонних людей, к ресторанной прислуге, подающей блюда, и умеют вести застольные беседы на любые темы, в зависимости от интересов гостя.
Постников сознавал, что случай свел его лицом к лицу с одним из самых замечательных людей мира. И он старался добросовестно запечатлевать в уме каждый жест, каждое слово этого почти совсем седого собеседника в светло-коричневом английском шевиоте и шелковом галстуке.
Наблюдательный гость подметил, что, помимо дела с долгоруковским архивом, хозяина втайне тревожит еще какая-то забота, своя, собственная.
Осторожными наводящими вопросами, с хорошо сыгранным участием г-н Постников выведал тут же, за столом, что издатель Франк отверг предложенные Герценом условия на переиздание по-французски его сочинений. Франк, видимо, надеялся выторговать себе побольше, догадываясь, что у писателя сейчас полоса материальных трудностей.
Гость изо всех сил стал убеждать хозяина не сдаваться. Лучше уж уступить право переиздания другому, хотя бы г-ну Лакруа.
— Вы и его знаете? — несколько удивился Герцен.
— Слышал от пана Станислава. А вот русских издателей на Западе знаю всех наперечет, от Брокгауза до… Элпидина!
Этот человек умел нравиться! Своим юмором, хваткой, бесспорным личным обаянием. Герцен отвлекся от издательской грызни, оживился, принялся с охотой за кушанья. Стал рассказывать невыдуманные истории о выходках князя Долгорукова — эти анекдоты некогда нравились читателям «Колокола» и вызывали массу одобрительных писем от русских.
Наталья Алексеевна, как бы не желая уступить мужу пальму первенства в застольной беседе, старалась перевести ее в иную область — педагогическую. Она сетовала на положение женщины в России вообще, а особенно на дело женского образования. Скоро ли у нас будет российский женский университет? Упомянула о собственном проекте открыть учебный пансион для безрелигиозного воспитания молодых девиц, в том числе Лизы… Мимоходом бросила замечание, что присматривала и во Франции, и в Швейцарии подходящее место, чтобы открыть такое заведение, но охотнее всего поехала бы с этой целью в Россию, куда ни ей, ни Лизе путь не закрыт…
От гостя не укрылось, как помрачнел от этих слез глава семьи. Он постарался отвлечь супругу от этих проектов, чем вызвал ее неудовольствие. Очень скоро мать и дочь, поковыряв вилками блюда и оставив их почти нетронутыми, к огорчению хозяина, встали из-за стола и откланялись, причем Наталья Алексеевна при уходе повторила свои педагогические планы. У отца же семейства, как показалось гостю, вырвался тайный вздох.
По уходе дам гость стал усерднее подливать в бокалы те вина, какие, по его наблюдению, нравились хозяину, — игристый «рейнвейн-муссо» и еще сухое красное с сельтерской, на французский манер. Над рассказами о Долгорукове Постников хохотал так заразительно, что хозяин не поскупился на новые анекдоты о князе.
— Благодаря своему богатству, — говорил Герцен, — князь Петр и в ссылке повел себя независимо. Ведь сослан он был служить в Вятке, где, кстати, ранее служил и я. И вот опальный князь шлет Бенкендорфу такое прошение: мол, перемену местожительства смиренно принимаю, но служить меня никто заставить не может согласно указу о вольности дворянской! Николай был так поражен этой наглостью, что велел проверить его умственные способности. Но от службы уволил!
Постников только головой качал: отважился бы на такое кто другой!
— Остер был князь на злые эпитеты и изречения. Третье отделение он называл не иначе как «всероссийская шпионница», или «шуваловка», или «заведение милого кузена», то есть князя Василия Долгорукова.
О временах Екатерины в сравнении с нашими сказал: «В то время еще не требовалось одного удара паралича для поступления в Сенат, и двух для поступления в Государственный совет».
— Да, их сиятельства дерзки были, и остроумны, и злы…
— Да еще как злы!.. Брату двоюродному, князю Василию Долгорукову, такой ответ из Парижа прислал: «Начальнику Третьего отделения. Почтеннейший князь, вы требуете меня в Россию, но, зная меня с детства, могли бы догадаться, что я не так глуп. Впрочем, желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю при сем мою фотографию. Можете фотографию сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а сам я, уж извините, в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать!»
Собеседник Герцена слушал с явным удовольствием, попивал хозяйское вино, заразительно смеялся и молил продолжать.
— Писал он и государю, а я в «Колоколе» это послание, полное яду, напечатал для всей России. В те годы «Колокол» достигал из Лондона не только до Петербурга, но и до Архангельска, Иркутска, даже до самой Камчатки!.. Писал князь Петр царю: мол, желаю, «чтобы дом принцев Гольштейн-Готторпских» (так он именовал романовскую династию, от которой после Петра Второго действительно в ныне царствующих жилах ни кровиночки романовской не осталось по мужской линии), итак, «чтобы дом принцев Гольштейн-Готторпских, ныне восседающий на Всероссийском престоле, понял, наконец, где находятся его истинные выгоды: чтобы он снял с себя, наконец, опеку царедворцев, жадных и неспособных, мнимая преданность которых не переживет его могущества; чтобы он учредил в России порядок правления дельный и прочный, даровал бы конституцию и через то отклонил бы от себя в будущем неприятную, но весьма возможную случайность промена Всероссийского престола на вечное изгнание…»