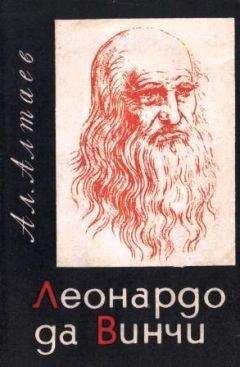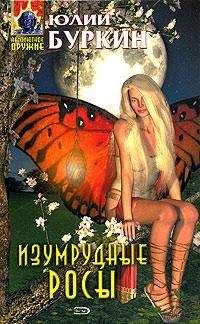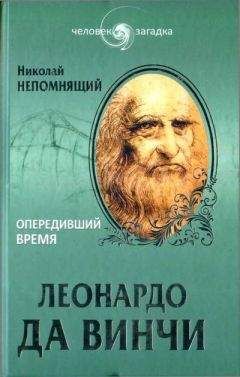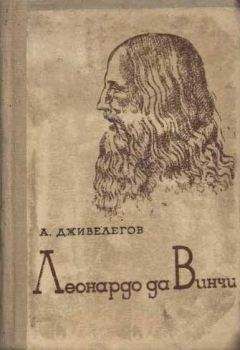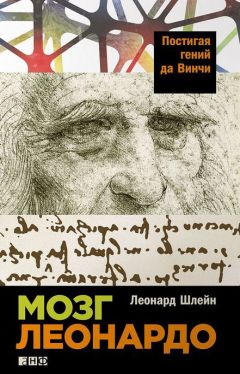«Сделай так, — говорил Леонардо, — чтобы дым от пушек смешивался в воздухе с пылью, поднимаемой движением лошадей сражающихся. Чем больше сражающиеся вовлечены в этот вихрь, тем менее они видны и тем менее заметна резкая разница между их частями, находящимися на солнце и в тени. Если ты изображаешь упавшего человека, то сделай так, чтобы видно было, как он скользит по пыли, образующей кровавую грязь. Где почва менее залита кровью, там должны быть видны отпечатки лошадиных и человеческих шагов. Если победители устремляются вперед, их волосы и другие легкие предметы должны развеваться ветром, брови должны быть нахмурены; все противолежащие части должны соответствовать друг другу своими соразмерными движениями. Побежденные бледны; их брови около носа приподняты; лбы их покрыты глубокими морщинами; носы пересечены складками».
Слава об удивительных картонах давно уже разнеслась по всей Италии, и художники из разных городов приезжали, чтобы увидеть наконец их.
В Палаццо Веккио явился молодой Рафаэль и восторженными глазами смотрел на оба произведения. И, когда Перуджино — «патриарх», учитель уже прославленного Рафаэля, спросил, который из картонов ему больше нравится, юноша глубоко задумался; на его прекрасное лицо с ясным, «солнечным» выражением набежала тень. Тряхнув густыми каштановыми кудрями, молодой художник прямо посмотрел в глаза Перуджино и горячо сказал:
— Оба, оба, маэстро, уверяю вас! Я говорю это от чистого сердца и был бы огорчен, если бы мое преклонение перед личными достоинствами мессэра Леонардо да Винчи заставило меня быть несправедливым к мессэру Буонарроти.
Не было двух людей, менее похожих друг на друга, чем Леонардо и Микеланджело. Разносторонние научные интересы и таланты исследователя отвлекали Леонардо от искусства и заставляли его быть сосредоточенно-замкнутым. Рожденный и воспитанный в состоятельной семье, взлелеянный, как нежное растение, заботливыми женскими руками, красивый, изящный, он хорошо одевался и отличался хорошими манерами. Иным был Микеланджело. Некрасивый, нескладный, с грубоватыми манерами, он мало считался с тем, что называлось «умением держать себя», привык говорить правду в глаза и ради деликатности ни за что бы не покривил душою. Он не уживался ни при каком дворе, ни при герцогском, ни при папском, и чувствовал себя хорошо только с простыми людьми — с товарищами по работе или со скарпеллино — каменотесами и другими ремесленниками.
Все эти качества заставляли его избегать общества изящного Леонардо и чувствовать к нему неприязнь, основанную только на его внешнем превосходстве. Эта неприязнь заставила Микеланджело нарочно явиться в Палаццо Веккио одетым в самый плохой, поношенный костюм и в заштопанном темном плаще.
Рафаэля, мягкого, привыкшего всюду чувствовать себя желанным, отталкивала резкость Микеланджело, — его тянуло к уравновешенному и приятному собеседнику Леонардо да Винчи, с которым можно было говорить на многие темы, чуждые Микеланджело.
Никто не вышел победителем из этого художественного турнира, вернее — оба художника победили друг друга, так хороши были картоны.
Теперь оставалось выполнить фрески.
Леонардо, начав работу над стенною живописью, наткнулся на помеху: его не удовлетворяли краски, которыми он до сих пор работал, и он отдался опытам, изобретая неё новые и новые соединения.
Не начал фрески и Микеланджело по многим сложным обстоятельствам. Картон его не дошел до нас. Говорят, он сделался жертвою низкой зависти. Во время одной из смут, частых в беспокойной Флоренции, известный художник Бандинелли тайно проник в залу собрания и кинжалом изрезал в куски произведение Буонарроти.
Еще перед самым началом работы в Палаццо Веккио Леонардо получил письмо от очень почитаемого во Флоренции банкира Франческо делле Джокондо, известного своим богатством и щедрыми взносами на общественные нужды и нужды церкви. Письмо было написано затейливо-пышным языком, в выражениях не только почтительных, но и полных благоговения к высокому дарованию и известности единственного и несравненного мессэра Леонардо да Винчи. После всех этих пышных эпитетов следовало почтительнейшее приглашение зайти в дом покорного слуги маэстро, мессэра Джокондо.
Слыша, как Леонардо, смеясь, читал вслух ученикам полученное письмо, Зороастро изрек:
— Asino che ha fame mangia d'ogni strame…[49]
Эта пословица не сходила с языка Одноглазого, слишком наголодавшегося в пору неудач мастера и не верившего в хорошие заказы.
И он продолжал:
— Ежели и закажет синьор Джокондо, то, уж наверно, предложит какой-нибудь пустяк. Эти богачи скорее опорожнят свой кошелек в карман падре, чтобы тот усерднее молился за спасение их грешной души, чем заплатят как следует зна-ме-ни-тей-ше-му во всем ми-ре художнику Леонардо да Винчи.
Эта воркотня вызвала смех учеников и рассеянную улыбку у Леонардо. Он сказал, потрепав по плечу Зороастро:
— Ладно, старик, подай-ка мне лучше мой новый костюм, да не забудь плащ. Я иду.
В красивом доме Джокондо, с фонтаном в виде художественно исполненных дельфинов, что виднелся за аркой, на фоне цветущих деревьев, Леонардо приняли с почетом. В кабинете, заваленном счетными книгами, появились слуги с большим подносом, заставленным сладостями и напитками, и два синьора угощали пришедшего: мессэр Джокондо, человек лет сорока пяти, с благонравным лицом и уже порядочной лысиной, и почтенный старик, его тесть.
— Мы ждали вас с нетерпением, мессэр Леонардо, — начал заискивающим тоном Джокондо, — я и отец. У нас величайшая к вам просьба: мы хотим иметь портрет одной молодой дамы… то есть я хотел сказать, той, которая удостоила меня счастьем назвать ее своею супругой…
— …и которая является моей единственной и горячо любимой дочерью, мессэр Леонардо, — добавил старик, поглаживая длинную и узкую белую бороду. — Мое утешение, мессэр Леонардо, и отряда моей старости.
— Нам хочется, чтобы портрет вышел как можно лучше, и мы не жалеем на это денег, уверенные, что только им один можете нас удовлетворить, один во всем мире, — говорил с воодушевлением синьор Джокондо, — и мы хотим, чтобы вы взяли за него задаток… тогда для нас будет вернее…
Банкир назвал огромную сумму за выполнение заказа и прибавил:
— Но, ежели этого мало, мы, разумеется, увеличим плату.
Леонардо сказал:
— Я охотно стану работать, но мне хотелось бы видеть ту, которую я буду писать.
— Сейчас, — засуетился банкир и шепнул что-то подававшему угощение слуге.