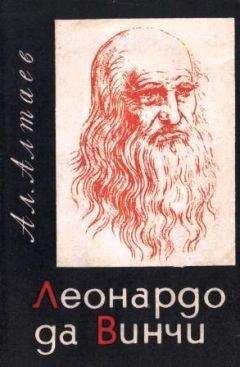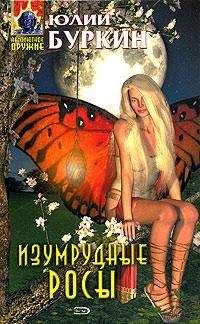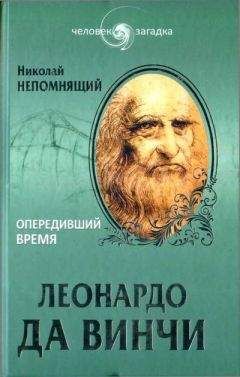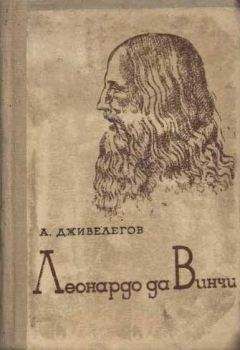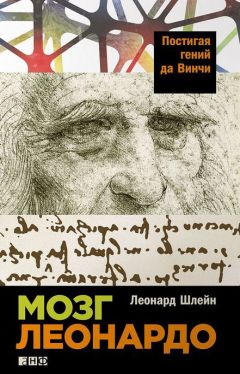Тот исчез, и через короткое время в кабинет тихо вошла молодая женщина. На ней было дорогое платье и волосы причесаны по моде того времени — с локонами, спускавшимися на плечи. Была ли она красавица? Нет, нисколько, во Флоренции многие женщины были куда красивее ее. Но вполне развившаяся фигура ее была совершенна, и особенно совершенной формы были ее выхоленные руки. Но что было в ней замечательно, несмотря на богатство, выщипанные по моде брови, румяна и массу драгоценностей на руках и на шее, — это простота и естественность, разлитые во всем ее облике. Под дугами бровей, близко к ним, сияли небольшие, но необыкновенно ясные, живые глаза. Войдя, она сконфузилась, видимо, пораженная серьезной, необыкновенной внешностью художника, столь не схожей с наружностью бывавших в их доме банкиров и купцов с их резкими манерами и резким голосом, громко спорящих из-за процентов и сроков векселей. Отец с любовью сказал:
— Вот она, наша мона Лиза, вот чей портрет мы оба жаждем видеть…
От этих слов она покраснела, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой и стало необычайно привлекательным для художника — смущенным и немножко лукавым, словно к нему вернулась утраченная шаловливость юности и что-то затаенное в глубине души, неразгаданное…
— Я согласен начать работу, — сказал Леонардо, поклонившись моне Лизе, — но хочу предупредить: я буду писать долго, может быть, очень долго, чтобы вышло так, как мне это нужно. И еще я попрошу вашу милость о необходимом для меня условии: писать портрет не у вас в палаццо, а в моей мастерской. Там у меня наиболее подходящие условия… для этого портрета, для спокойной, длительной работы. Я на этом настаиваю.
Он произнес последнюю фразу, когда увидел, что на лице моны Лизы появилось выражение скуки. Она даже тихонько зевнула, просто прикрывая рот рукою. В этот момент лицо ее показалось художнику скучным, неинтересным. Она испугалась, очевидно, когда он упомянул о продолжительном сроке работы. «Нельзя допустить, — подумал он, — чтобы эта модель скучала во время сеансов. Тогда ничего не получится, кроме мертвенной передачи более или менее сходных с оригиналом черт лица…»
* * *
— Слушай, Салаино, ты бываешь всюду, где смех и веселье. Скажи, знаешь ли ты каких-нибудь музыкантов, умеющих хорошо играть па лютне, хотя бы для уличных гуляний? Вообще что-нибудь веселое, очень веселое?
Удивительный разговор затеял учитель с Салаино. Он заинтересовал и Зороастро, который ведь тоже любил уличные гулянки. Великан вмешался, хотя его и не спрашивали:
— Шуты бывают веселее музыкантов! Я знаю одного, Якопо Бескостного; он кривлялся, как угорь, точно у него нет костей; он может и петь… Ну, знаете, когда он на гулянке, то все животики надорвешь от смеха.
Леонардо кивнул головою:
— Понадобятся, возможно, и шуты, твой угорь Якопо… Бескостный…
После этого Салаино и Зороастро стали рыскать по городу, чтобы найти шутов и музыкантов повеселее. Может быть, поискать еще искусных жонглеров? Узнать бы, для чего все это маэстро…
Дело немножко прояснилось, когда после переговоров с приходившими певцами и плясунами художник объявил, что завтра не пойдет в Синьорию и начнет работать дома и что «для натуры» ему нужны «весельчаки». Какую же картину он затевает? Но, по-видимому, имеется заказ, и, должно быть, крупный. Зороастро изрек в присутствии учеников:
— Трава уже, видно, прибыла для лошади.
* * *
Вся улица была заинтересована и даже встревожена, когда у дверей дома, где жил Леонардо да Винчи, нарядные носильщики поставили паланкин, из-за раздвинутых занавесок которого показалась молодая женщина. К ней склонился ехавший рядом на коне известный всей Флоренции глава цеха купцов мессэр Джокондо, явившийся в сопровождении целой свиты, как какой-то владетельный герцог. Пока синьор Джокондо галантно помогал молодой даме выйти из носилок, один из его слуг принялся изо всей силы колотить молотком, привешенным снаружи, в запертые двери.
Скоро мессэр Франческо делле Джокондо с женою и сопровождавшей ее служанкой были в мастерской знаменитого художника.
Мона Лиза конфузилась и была недовольна этим нелепым, как ей казалось, путешествием, предвидя скуку сидеть неподвижно; лицо ее предательски выражало ощущение безнадежности, но потом ее заинтересовала обстановка мастерской: фигура закованного в латы рыцаря рядом с мольбертами и среди них — этот серьезный человек с длинной бородою, который должен был увековечить на полотне ее образ. Как это так — сидеть не шелохнувшись, смотреть в одну точку, а с тебя кто-то чужой не будет спускать глаз…
А Леонардо, глядя на это будто потухшее лицо, думал:
«Нет, если нельзя сейчас, то со следующего раза непременно нужны шуты и весельчаки».
Он вспомнил почему-то и Бацци Содома. Вот кто мог бы позабавить ее рассказами, понятно не о монахах и их проделках — ведь она, надо думать, истово религиозна. А если бы он еще пришел со своей обезьянкой, веселое настроение модели было бы обеспечено. Но пока что надо дать ей освоиться.
И после первых приветствий, распорядившись, чтобы на стол был поставлен поднос со сластями, фруктами и напитками, Леонардо занялся приготовлением к сеансу. Пока он выдвигал мольберт, мона Лиза, чуть нахмурившись, рассматривала комнату и мелькавших в дверях подмастерьев и слуг художника. Златокудрая голова Салаино, а рядом огромная фигура одноглазого Зороастро заинтересовали ее.
Леонардо, подойдя ближе к моне Лизе, снова обратил внимание на ее руки. Она положила их одну на другую в позе благонравной девочки, ожидающей выговора старших. До чего были прекрасны эти руки!
Художник сказал с обычной мягкостью:
— Мне бы хотелось, если синьора ничего не имеет против, изобразить эти руки без всяких украшений, а шею — без ожерелья.
Мессэр Джокондо взглянул на мастера с удивлением, но ничего не возразил. Мона Лиза торопливо сняла с рук кольца, сняла с шеи ожерелье из жемчуга и положила все рядом на край стола.
— Благодарю синьору, — проговорил Леонардо. — И, если возможно, не меняйте позы.
Она была такою, какою ему хотелось ее написать: ни единого украшения, сама простота — открытая шея, и по ней бегут локоны.
Он начал набросок серебряным шрифтом.
А в это время мессэр Джокондо, освоившийся с обстановкой, отведал густого красного вина, сверкавшего в хрустале графина.
Теперь у него был благодушный и самодовольный вид. Казалось, он был в восторге, что его жена будет увековечена кистью знаменитого Леонардо да Винчи. Он говорил с простодушной откровенностью:
— И жениться мне удалось, мессэр Леонардо, как нельзя лучше. Отец ее был другом моего отца, и капиталы наши соединились. А невеста хоть и привыкла к вечным развлечениям в богатой семье, но воспитана в строгости и целомудрии.