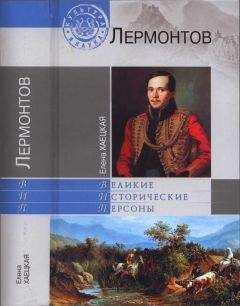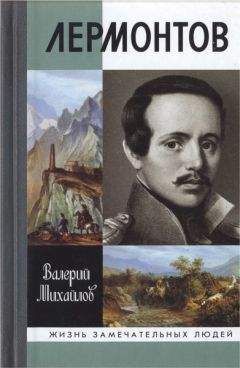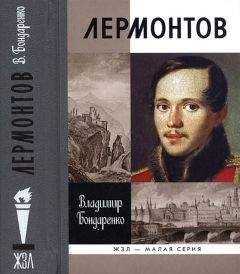Человек не может быть совершенно счастлив. Для счастья необходимо соединение двух любящих сердец; необходимо, чтобы женщина была воплощением «природы» с ее божественной тишиной; необходимо, однако, и чтобы мужчина мог пожертвовать славой ради такой женщины. Слишком много условий должно быть выполнено; на земле такое невозможно — либо женщина окажется коварной, «ядовитой», либо мужчина проявит себя недостойным ее…
Но Зораиму был милей
Девичьей ласки путь кровавый!
Безумец! ты цены не знал
Всему, всему, чем обладал,
Не ведал ты, что ангел нежный
Оставил рай свой безмятежный,
Чтоб сердце Ады оживить;
Что многих он лишил отрады
В последний миг, чтоб усладить
Твое страданье. Бедной Ады
Мольбу отвергнул хладно ты;
Возможно ль? ангел красоты
Тебе, изгнанник, не дороже
Надменной и пустой мечты?..
Зораим погибает в битве. Кто сражался, против кого, зачем? Все это не имеет значения; для Зораима, охваченного жаждой личной славы, важно совершить подвиг. Когда все уже повержены, когда жалкие беглецы пытаются спасти свою жизнь, один лишь Зораим остается на поле боя с оружием в руках и продолжает отбиваться.
Он не был царь иль царский сын,
Хоть одарен был силой взгляда
И гордой важностью чела.
Но вдруг коварная стрела
Пронзила витязя младого,
И шумно навзничь он упал…
Ради чего же он покинул Аду? Ради пустого…
Ада спускается в долину и находит умирающего Зораима. Она хочет быть с ним в последние мгновения, но он отталкивает ее:
«Ты здесь? теперь? — и ты ли, Ада?
Ах, твой приход мне не отрада!
Зачем? — Для ужасов войны
Твои глаза не созданы,
Смерть не должна быть их предметом;
Тебя излишняя любовь
Вела сюда — что пользы в этом?..»
Ее любовь он называет «излишней»! Под предлогом заботы о ней («Для ужасов войны твои глаза не созданы»), перед лицом надвигающейся смерти он все продолжает свою бессмысленную роль «героя».
И только перед самым концом он просит у нее прощение:
«Я виноват перед тобой…
Прости! Ты будешь сиротой,
Ты не найдешь родных, ни крова,
И даже… на груди другого
Не будешь счастлива опять:
Кто может дважды счастье знать?»
И вновь он сожалеет о том, что жизнь его обрывается, а честолюбивая цель не достигнута:
«Я чувствую, к груди моей
Все ближе, ближе смертный холод.
О, кто б подумал, как я молод!
Как много я провел бы дней
С тобою, в тишине глубокой,
Под тенью пальм береговых,
Когда б сегодня рок жестокой
Не обманул надежд моих!..
Еще в стране моей родимой
Гадатель мудрый, всеми чтимый,
Мне предсказал, что час придет —
И громкий подвиг совершу я,
И глас молвы произнесет
Мое названье, торжествуя,
Но…»
Но! Если бы «рок не обманул» и Зораим оказался бы жив, да еще выбрал бы победившую сторону (ему, кажется, все равно было, на чьей стороне сражаться), разве вернулся бы он в пещеру под пальмами? Он ведь о славе мечтал, а какая слава возможна в пустыне? Нет, он ушел бы к людям и погрузился бы в «обольщенья света».
И когда Зораим умирает, Ангел смерти вспоминает о своей истинной сущности. Теперь ничто его не удерживает на земле.
… Ангел смерти, смертью тленной
От уз земных освобожденный!..
Он тело девы бросил в прах:
Его отчизна в небесах.
Пожив в теле девы, узнав любовь, предательство и утрату, Ангел смерти исполнился презрением к людям — к тем самым людям, которых он когда-то бесконечно жалел.
… Ангел смерти молодой
Простился с прежней добротой;
Людей узнал он: «Состраданья
Они не могут заслужить;
Не награжденье — наказанье
Последний миг их должен быть.
Они коварны и жестоки,
Их добродетели — пороки,
И жизнь им в тягость с юных лет…»
Так думал он — зачем же нет?..
Ангел, как и демон, — существо простое. В стихотворении «1831-го июня 11 дня» Лермонтов формулирует предельно отчетливо:
Они таких не ведают тревог,
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным…
Ангел, испытав на себе эту «встречу» священного с порочным, из милосердного становится мстительным, его природа теперь навсегда искажена.
О чем же просит в своем посвящении Лермонтов? Как может «Сашенька» стать «Ангелом смерти»? Точнее, каким Ангелом смерти она должна стать?
Изначальным — невозможно. Теперешним — не нужно.
Думается, что земным, тем, что всегда было для Лермонтова образом идеальной женщины. Прожить рядом с такой он, наверное, бы не смог — в силу своей похожести на Зораима, — но умереть у такой на руках хотел бы.
Очевидно, в 1830 году «семейная драма» Лермонтова «дошла до высшего своего развития», — пишет Висковатов. «Наконец вопрос для Михаила Юрьевича был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом… Бабушка упрекала внука в неблагодарности, описывала отца самыми черными красками и наконец сама, под бременем горя, сломалась. Ее слезы и скорбь сделали то, чего не могли сделать упреки и угрозы, — они вызвали глубокое сострадание внука… Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу… подозревает в сыне желание покинуть его, остаться у бабушки… Что тут произошло опять, мы знать не можем, только отец уехал, а сын по-прежнему остался у бабушки. Они больше не виделись — кажется, вскоре Юрий Петрович скончался. Что сразило его — болезнь или нравственное страдание? Может быть, и то и другое, может быть, только болезнь. А. З. Зиновьев будто помнил, что он скончался от холеры. Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Надо думать, что скончался отец Лермонтова вдали от сына и не им были закрыты дорогие глаза. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве и что его сын был на похоронах. Возможно, что стихотворение «Эпитафия»… относится к отцу. Из него можно понять, что Михаил Юрьевич был на похоронах или у гроба отца. Во всяком случае, интересно, что высказанная в этом стихотворении мысль «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал» совпадают с местом в драме «Menschen und Leidenschaften», тоже писанной в 1830 году, где Юрий Волин говорит отцу: «Я обязан вам одною жизнью… Возьмите ее назад, если можете… О, это горький дар!»».