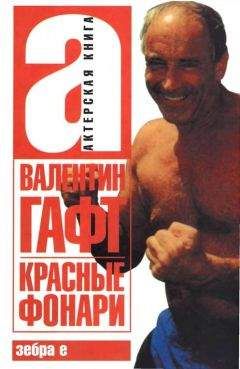Она говорила легко, быстро, без акцента, и Герман подивился, что она совсем не похожа на иностранную девушку. Недлинные густые волосы были коротко острижены и совсем не уложены: видимо, Герман просто не понимал, сколько труда и искусства требует такая «неуложенность».
Большие темно-серые глаза, на удивление подвижные, вспыхивали каждый раз, как Эва видела новый объект своего внимания — будь то человеческое лицо, фонтан, красивый дом, проезжающая машина — она загоралась, как ребенок, словно боялась пропустить самое интересное в жизни. Она была полна азарта молодости и, не сдерживаясь, расплескивала его.
Так думал Герман.
Многие в автобусе, оценив по достоинству ее живость и стремительность, не преминули про себя отметить — «Высший профессионализм!»
Позже выяснилось, что был прав Герман — это был ее характер, но не владение профессией общительного гида.
Герман оказался рядом с ней — она заняла место около водителя, чтобы хорошо видеть дорогу и всех сидящих в автобусе. Он снял очки, чтобы не так нахально рассматривать ее, потому что увидел главное, и это главное сразило его — она показалась давно знакомой, то есть такой, какую он давно хотел бы повстречать.
Сердце его замерло — «Как это, так сразу?» — и заликовало — «Только так и может быть — сразу!» — но сомнений не было: ее присутствие сковало его, взбудоражило, праздник, начавшийся вчера, сегодня перешел в новую, более высокую фазу, к нему прибавилось главное — женщина!
Чуть позже Герман вновь надел очки, задал Эве несколько вопросов. Она с готовностью ответила, глядя ему пристально в глаза и как бы вызывая на новые вопросы — «Я готова отвечать!»
Он успел заметить, что верхняя губка у нее очень подвижна и на ней уселились бисеринки пота, она иногда их сдувала, выпятив нижнюю губу, иногда слизывала острым кончиком языка.
Дольше смотреть он не мог, снял очки и уставился в окно, ничего не видя, с трудом вникая в то, что она говорит, но с замиранием сердца вслушиваясь в интонации ее голоса и боясь повернуть голову в ее сторону, — он смотрел в боковое окно, что было неудобно и бессмысленно на первом сиденье.
Закончилась экскурсия по городу, автобус привез их к гостинице.
Герман первым вышел из автобуса, надел ненавистные очки, как бы воздвиг преграду между собой и этой женщиной, что нежданно-негаданно ворвалась в его душу.
Он замешкался у двери. Эва опустила ногу на нижнюю ступеньку и взглянула вниз, словно боясь ступить, — она была мала ростом. Герман протянул ей руку, она схватилась за нее, легко спрыгнула и, не отпуская его, взглянула снизу вверх своими распахнутыми глазами.
— Спасибо! — сказала она и замерла с полуоткрытым ртом — так пристально глядел на нее очкастый русский гражданин.
— Герман! Меня зовут Герман! — представился он.
— Спасибо, Герман!
Он не отпускал ее руку, она не вырывала ее, и Герман понял, что краснеет.
Самым удивительным для него была реакция Эвы на явное смущение русского — легкий румянец вспыхнул на ее щеках. Именно в этот момент Герман разглядел на ее лице мелкие веснушки. Она слизнула капельки пота с верхней губы и еще раз сказала:
— Спасибо, Герман!
Герман смотрел в сторону мутной Исконы, но вряд ли что видел. Очки он снял, пожалуй, от этого ему лучше было видно то, что происходило десять лет назад…
— Всего два слова — «Спасибо, Герман!» — а для меня… Для меня… Я весь день повторял ее слова, повторял про себя ее интонации, которые показались мне необычными и исполненными глубокого смысла… Мне и не пришло в голову, что это всего-навсего иная манера общения мужчины и женщины, иная, чем у нас… Я уловил в ее интонациях глубокий смысл и даже подтекст… Не забывай, что был еще достаточно молод, не женат и что приехал на первый заграничный праздник — в Злату Прагу! Представь себе, что это была моя первая и последняя экскурсия по городу… Потом я исходил его вдоль и поперек, но, поверишь ли? — ничего не запомнил! Помню — много домов, много кафе, много булыжных мостовых — но ничего конкретного, ни в архитектуре, ни в запахах все слилось, ничего не запомнил, а гид у меня был прекрасный — Эва. Она себя называла — Эва!
Герман докурил, выбросил сигарету, тотчас достал другую, прикурил и тут же выбросил. Он был взволнован и не старался скрыть это. Говорил он спокойно, даже буднично, как бы со стороны и по прошествии времени, и не малого, разглядывая того Германа, что влюбился сразу и безоговорочно, но это-то и выдавало его истинное волнение, и я не мог понять причин его!
Неужели только ради воспоминаний может человек погнаться в такую даль, на такую исповедь и на такое волнение?
Может, это связано с какой-нибудь датой? Он говорил, что был там осенью, и сейчас осень. Может быть, все дело в этих днях, которые он — Герман — вот уже десять лет отмечает, мечась по друзьям и знакомым, исповедуясь и вновь переживая их, как самое полноценное в своей жизни?
Нет. Я неплохо знал его. Это не традиция, не дни скорби по несостоявшемуся чуду — тут было что-то другое…
— Она призналась потом, что с ней произошло то же самое, что со мной, как только она увидела мои нелепые очки и неухоженную шевелюру… Десять лет назад мои кудри были много гуще, если помнишь… Мы с ней не говорили о наших взаимоотношениях… Топорное слово, канцелярское — взаимоотношения! Канцелярское… Мы с ней не говорили… Что было говорить? О чем? Она брала меня за руку мягкими пальцами — казалось, у нее в ладошке нет костей — и я замолкал… Сутки держала бы руку — сутки бы молчал… Русский она знала прекрасно… Ее отец с детства владел нашим языком, и она выросла сразу в нескольких языках — мать хорошо говорила по-английски и по-немецки… Планов на будущее мы не строили… Что толку было их строить, когда они были уже построены вне нас: тридцатого числа — день отъезда! Единственно, о чем она твердила, что через год будет в Москве с каким-то чешским театром, и тогда мы опять увидимся и что-нибудь придумаем… Она была уверена, что мы что-нибудь придумаем, потому что то, что произошло… Ну, словом, она была уверена, что это не наша прихоть, что это — судьба…
Оставалось два дня до конца гастролей, время уплотнялось, они словно проваливались в бездну. Взявшись за руки, исходили все улицы старого города, промерили ногами все набережные и мосты, посидели в нескольких кафе.
Устали.
— Пойдем ко мне! — решившись, сказала Эва.
Она жила с родителями, но у нее была своя однокомнатная квартира, где она работала, куда приглашала друзей или отсиживалась, уставая от родительской опеки, — родители обожали ее.