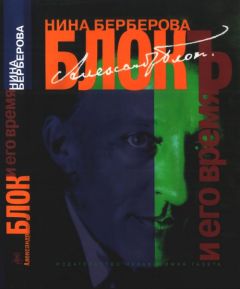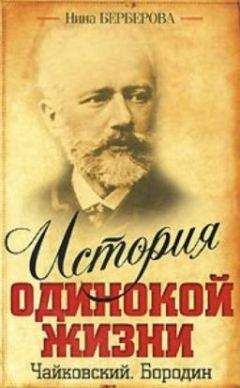Ознакомительная версия.
Это прозвучало деланно. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть и теперь страшно рада, что мне уже не двенадцать лет.
Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. Был и другой гость, кроме меня, Николай Тихонов.
Гумилев ценил его и принял его в Союз в тот же день, что и меня.
Студия помещалась в Доме Искусств. Был вторник, 2 августа. По какой причине собрание было перенесено с понедельника на вторник, я сейчас не помню, но это было исключением. В одной из елисеевских гостиных стоял длинный стол, мы все сели вокруг него. Читали стихи "по кругу", как тогда было принято. Были две сестры Наппельбаум, были Н.Сурина, А.Федорова (позже жена Вагинова), Вера Лурье, Ольга Зив (впоследствии - детская писательница), К.Вагинов, Волков, Столяров, Рогинский, Миллер, Николай Чуковский - все те, которые изображены на групповой фотографии, вокруг Гумилева - снимок был сделан весной 1921 года фотографом Наппельбаумом, отцом Иды и Фриды. (Первая была женой М.Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина, вторая умерла при трагических обстоятельствах в 1950 году.) Все члены студии были в свое время напечатаны в сборнике "Звучащая раковина", до библиотек западного мира не дошедшем. Они выпустили его осенью 1921 года, посвятив его Гумилеву, - вряд ли этот сборник когда-либо пошел в продажу.
Лучше других были Костя Вагинов, Николай Чуковский и Фрида. Она читала:
Я открою окна и двери,
Ветер зашумит в волосах,
И придумаю, что скрылся берег
Там, где синяя полоса.
Я сейчас же сдружилась с Н.Чуковским (сыном Корнея Ивановича). Ему было тогда семнадцать лет, и он был толст и стеснялся своей толщины. Вагинов был очень тих и печален (позже он мне напоминал чем-то Зощенко) и писал стихи странные, немножко бредовые:
В книгохранилище вхожу едва
В книгохранилище летят слова...
Волков прочел свою рецензию на "Огненный столп" Гумилева, только что вышедший тогда (и тоже им потопленный в Неве), написанную ритмической прозой, а Тихонов сидел угрюмо и очень быстро ушел.
После "лекции" Гумилев предложил играть студентам в жмурки, и все с удовольст вием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком Я не могла заставить себя бегать со всеми вместе - мне казалась эта игра чем-то искусственным, мне хотелось еще стихов, еще разговоров о стихах, но я боялась, что мой отказ покажется им обидным, и не знала, на что решиться. В конце концов я заставила себя присоединиться к играющим, хотя мне вдруг сделалось скучно от беготни, и я была рада, когда все это кончилось, что-то было тут фальшивое. После игры Гумилев повел нас к себе, кое-кто ушел, и нас оказалось всего человек пять. Комната его была большая, вдоль стен стояли узкие, длинные диваны - это был елисеевский предбанник, в бане рядом, в кафельных стенах, жила Мариэтта Шагинян. Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. "Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять, - сказал он, - потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было". И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради:
Я сам над собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.
Лишь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.
А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились
Прозрачных девических глаз
Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе
Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реки,
Как два золотые крыла.
Я чувствовала себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Он сказал: и только? Он, видимо, совершенно не догадывался о том, что мне было и неловко, и неуютно с ним.
Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли, и вся его грусть в тот вечер, не знаю, каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня, наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я не знала, на что решиться: дать всему этому растаять постепенно, раствориться самому, молчать и отдалиться в ближайшие дни или же сказать ему, чтобы он придумал для наших отношений другой тон и другие темы. Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких случаях, хотелось временами быть за тридевять земель, и вместе с тем я помнила, что это - большой поэт. "Я с женщинами дружбы не признаю, - сказал он, будто нечаянно, - я дружбы с вами не ищу". Зачем я здесь с ним? - в эту минуту подумала я. Одновременно же я казнилась, что не могу рассеять, как он говорил, его беспричинную грусть в тот вечер, чувствуя, как эта грусть все больше и больше переливается в меня и как я делаюсь внутренне все более тяжелой, неповоротливой, напряженной.
- Пойду теперь писать стихи про вас, - сказал он мне на прощанье.
Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: "Спасибо вам, Николай Степанович". Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встретилась с ним, потому что на рассвете 3-го, в среду, его арестовали.
- Я нашел среди бумаг Николая Степановича, - сказал мне через месяц Георгий Иванов, - черную клеенчатую тетрадь, в ней записано всего одно стихотворение. Вы знаете про эту тетрадь?
- Да, - ответила я.
- Хотите ее получить?
Но как я не могла принять от Гумилева книг, так я не могла принять его стихов. Я поблагодарила Иванова и отказалась.
Я не хотела ни расспросов, ни догадок. Больше мы с Ивановым никогда к этому не возвращались: стихи он напечатал в последнем сборнике Цеха, в Берлине, в 1923 году.
Мне теперь нужно было разобраться в том, что произошло. Я увидела, что моя дорога внезапно скрестилась с человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять, а заодно не понял и меня. Он рассказывал о себе, что он монархист, крестился на церковный купол, уверял, что счастлив тем, что чувствует себя двенадцатилетним. Все это было мне так чуждо, все это было такое "анти-я", что мне показалось невероятным, когда я узнала, что Гумилеву было только 35 лет, - в своем недомыслии я представляла его себе пятидесятилетним. Кстати, лицо его, как это часто бывает у безобразных людей, было без возраста.
Ознакомительная версия.