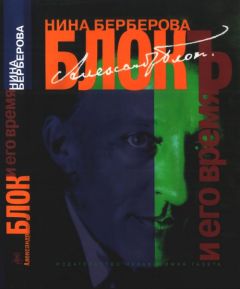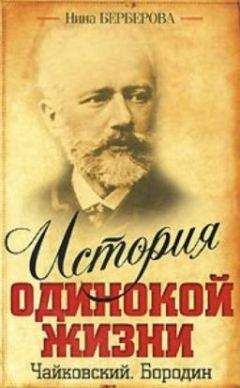Ознакомительная версия.
Зачем я встретила его? - думала я. Зачем он говорил мне вещи, от которых меня коробило, и тоном, от которого все во мне сжималось? Права ли я, когда так много значения придаю словам, и, может быть, даже богиня моя, сказанное с лучшими намерениями, вовсе не было так ужасно? Но я понимала, что тут были не одни слова: тут была плеть, которая еще раньше кое у кого "висела на стенке". А ко мне еще никто не входил с плетью (и без улыбки) надобности в этом не было.
Но теперь он был арестован. Это страшное утро, когда его взяли и увезли, после того как он сказал, что ему тяжело, как никогда... Я перебирала в памяти его стихи, я знала их наизусть с тринадцати лет, многое я в них любила, но я вдруг увидела всю их детскость, в то же время как и старомодность, их несовременность, их искусственность для нашего времени. Ведь он повернул обратно, от символизма к парнасу, думалось мне, а вовсе не устроил революции против символистов. Неужели парнасом хотел он победить Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Блока? Даже в его многопудовой, неповоротливой мужской самоуверенности сквозила эта старомодность завоевателя, покорителя. Не истинная старомодность отцов и дедов, а какая-то стилизованная, утрированная, деформированная копия ее. Он был большим поэтом, я теперь уверена в этом, но, вероятно, родившимся слишком поздно; он был бы счастливее, живи он где-то между Константином Леонтьевым и Случевским.
Недаром он однажды сказал: "Я вежлив с жизнью современною, но между нами есть преграда". Это но говорит о драме Гумилева, оно многозначительно. Теперь я знаю, что он большой поэт, но тогда - как сухо и с каким предубеждением я думала о нем!
Через несколько дней (это было воскресенье) я вышла из дому, совершенно не зная, куда идти, но дома оставаться не хотелось. В те дни я была очень одинока, дружба с Ник. Чуковским, Идой и Львом Лунцем пришла только в начале осени. Я вышла и пошла по улицам, думая зайти в Дом Литераторов и, может быть, там узнать что-нибудь новое о судьбе Гумилева. По пути я пережидала дождь в какой-то подворотне. Я никак не могла овладеть собой, все во мне было залито черной тоской, таких дней во всю жизнь у меня, вероятно, было не более тридцати, когда не знаешь, куда приткнуться, и понимаешь, что никто ничем помочь не может, когда ничего не ждешь, только чтобы полегчало немножко, чтобы наступила ночь и уснуть, как будто зубная боль, которую надо вытерпеть и хоть как-нибудь дотянуть до минуты, когда что-то дрогнет и повернется внутри. Но ничего не поворачивается, все замерло, остыло, одеревенело, и все болит а в общем: все равно!
Я шла по Бассейной в Дом Литераторов. Было воскресенье (и канун дня моего рождения), часа три. Может быть, у меня была надежда встретить там кого-нибудь и узнать что-нибудь новое об арестованных - в ту ночь были, среди других, взяты дядя Сережа Ухтомский, бывший издатель "Речи" Бак, проф. Лазаревский, которых я знала лично. Я вошла в парадную дверь с улицы. Было пусто и тихо. Через стеклянную дверь, выходившую в сад, была видна листва деревьев (Дом Литераторов, как и Дом Искусств, помещался в чьем-то бывшем особняке). И тогда я увидела в черной рамке объявление, висевшее среди других: "Сегодня, 7 августа, скончался Александр Александрович Блок". Объявление еще было сырое, его только что наклеили.
Чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни, охватило меня. Кончается... Одни... Это идет конец. Мы пропали... Слезы брызнули из глаз.
- О чем вы плачете, барышня? - спросил худенький, маленький человек с огромным кривоватым носом и прекрасными глазами. - О Блоке?
Это был Б.О.Харитон, которого я тогда не знала. Позже он стал эмигрантом, редактором рижской вечерней газеты. Советская власть, после взятия Риги в 1940 году, депортировала его в Советский Союз, где он и умер.
Он вышел на улицу, вынимая платок. Я тоже вышла вслед за ним.
Я медленно пошла к Литейному, повернула на Симеоновскую и Фонтанку. Здесь, на углу Симеоновской и набережной, я зашла в цветочный магазин. Да, как сейчас помню свое удивление, что в Петербурге открыт цветочный магазин. Открывались кухмистерские и комиссионные, было что-то вроде посудной лавки на Владимирском и парикмахерская на втором дворе на Троицкой. Но цветочного магазина, так казалось мне, здесь еще не было во вторник, когда мы проходили с Гумилевым, а теперь он был открыт и в нем стояли цветы. Я вошла. Не помню, входила ли я когда-нибудь до того в цветочный магазин, может быть, это было впервые. Цветочные магазины Петербурга когда-то в детстве были для меня сказочным местом. Цветочные магазины Парижа... Цветочные магазины Нью-Йорка... Все они имеют свой смысл. Денег у Меня было немного. Я купила четыре белые лилии на длинных стеблях. Оберточной бумаги в магазине не было, и я понесла лилии на Пряжку открытыми. Мне чудилось: прохожие догадываются, куда я иду и кому несу цветы, они читают объявления, расклеенные на углах улиц, все всё уже знают, и сейчас встречные повернут за мной и пойдут, и мы тихой толпой придем всем Петербургом к дому Блока.
Где-то на углу Казанской я села в трамвай, и когда я сошла в самом конце Офицерской, я сообразила, что никогда в жизни не была здесь и совершенно этих мест не знаю. Речка Пряжка, зеленые берега, заводы, низкие дома, трава на улицах, почему-то ни души. Вымерший, тихий край, край Петербурга, пахнет морем - или это мне только кажется?
Панихида была назначена в пять часов, я пришла минут на десять раньше. Так вот что предстояло мне в этот тоскливый день! Тоскуя и не зная, куда себя девать, я не могла предугадать, что этот день - число и месяц никогда не забудутся, что этот день вырастет в памяти людей в дату и будет эта дата жить, пока живет русская поэзия. Большой, старый и давно не ремонтированный дом. Вход из-под ворот. Лестница, дверь в квартиру полуоткрыта. Вхожу в темную переднюю, направо дверь в его кабинет. Вхожу. Кладу цветы на одеяло и отхожу в угол. И там долго стою и смотрю на него.
Он больше не похож ни на портреты, которые я храню в книгах, ни на того, живого, который читал когда-то с эстрады:
Болотистым, пустын...
волосы потемнели и поредели, щеки ввалились, глаза провалились. Лицо обросло темной, редкой бородой, нос заострился. Ничего не осталось, ничего. Лежит "незнакомый труп". Руки связаны, ноги связаны, подбородок ушел в грудь. Две свечи горят, или три. Мебель вынесена, в почти квадратной комнате у левой стены (от двери) стоит книжный шкаф, за стеклом корешки. В окне играет солнце, виден зеленый покатый берег Пряжки. Входит Н.Павлович, которая неделю тому назад мелькнула мне в Доме Искусств, потом Пяст и еще кто-то. Я вижу входящих, но мало кого знаю - только месяца через два я опознала всех.
Ознакомительная версия.