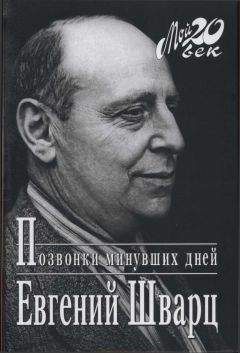Я решил начать учиться заново и пошел да и поступил в Институт восточных языков — дело по тогдашним временам простое. Со мною сердито, даже несколько брезгливо поговорил сидевший за письменным столом человек с седыми висками. Он спросил, на какие части разделяется Коран, и тут я впервые услышал, что на суры. Но в общем мои ответы удовлетворили его, и он велел мне идти в мандатную комиссию. Но я не пошел. Я почувствовал, что не овладеть мне и этой наукой. Но тут же устроился в студенческие артели грузить уголь. Грузили мы в порту, и я был поражен, почувствовав, как худо слушается тачка — как велосипед, когда едешь в первый раз. На деревянную высокую эстакаду уголь подавался краном, и мы в тачках по доске везли его к железнодорожным путям. И вот колесо тачки упорно съезжало с доски, и мы учились править тачкой. И научились. Четыре часа работали мы на эстакаде, четыре — в трюме, а потом шли домой, ночью, впрочем, совсем светлой, пешком. Уголь долго не отмывался. Глаза казались подведенными. Работали мы и в депо Варшавского вокзала, подавали колеса под ремонтируемые вагоны. Вернее, в мастерских дороги. И мы там обнаружили в траве поворотный круг и починили его — точнее, выпололи вокруг него траву и смазали его маслом, — и так перевыполнили норму, что бригадир пришел в некоторое смятение.
Для заработка стали мы играть в Загородном театре, где когда- то были казармы. Саша Кроль, режиссер молодой, с шапкой белых волос, худым лицом, светлыми глазами, полными губами, вел это дело, или само оно ползло да ползло — трудно сказать. Публика шла туго, хотя выступали в программе все тогдашние эстрадные имена — и Матов, и Светлин, и Гибшман. Петров и Горбачев, напудренные, в черкесках или кафтанах, пели злободневные куплеты своего сочинения. Выступали еще четыре еврея. Прежнее название их номера «Еврейский квартет» запретила цензура. Теперь это был «Квартет американских джентльменов». Начиналась программа с коротенького спектакля, с водевиля или скетча — кажется, тогда это американское слово вытеснило слово «миниатюра». Вот тут мы и играли. По роковому совпадению тех дней работать‑то мы работали, а заработков не было. За работу в порту платили тогда, когда причитающиеся деньги совсем обесценивались, то есть с двухнедельным примерно опозданием. Загородный театр просто горел. Публики становилось все меньше и меньше. Вся кассовая выручка шла знаменитостям. Однажды я даже устроил скандал и так кричал, что мне выделили причитающиеся мне полтора миллиона…
Театр новой драмы объединял молодых режиссеров: Грипича, Тверского, Константина Державина, Владимира Соловьева. Актеры подобрались все молодые, так же мало похожие на профессиональных, как мы в свое время. Были тут и люди, любящие театр, и просто так называемые интересные люди, не знающие, куда себя приспособить. Художниками были Володя Дмитриев, Моисей Левин и Якунина, тогда его жена. Близко к театру стояли Александра Яковлевна Бруштейн и Адриан Пиотровский — авторы. После долгих волнений Халайджиеву — она переменила фамилию на Холодову — приняли в Театр новой драмы, да и меня заодно не то зачислили в труппу, не то я сам зачислился, часто бывая в театре, — трудно установить. Я стал близко к театру в числе любопытных людей и несколько раз играл, хотя считалось, что собираюсь я стать писателем, играю уж так, заодно, пока. Да и выяснилось вскоре, что быть в штате или не в штате труппы, в сущности, все равно. Театр был на подъеме, не умер и не рассыпался, как многие, возникавшие в те дни. Получил театр постоянное помещение в центре города, в первом этаже бывшего Тенишевского училища на Моховой. В большом лекционном зале играл ТЮЗ, а в первом, вход прямо с Моховой, — мы, и несмотря на все эти признаки своего существования, театр не имел одного: никому жалования не платили. Точнее, платили от случая к случаю всем поровну. И это в те дни было естественно и являлось признаком молодого театра. И мы терпели. Вряд ли в театре было хоть подобие штатного расписания.
Александру Яковлевну Бруштейн нужно видеть, для того чтобы понять. Только тогда постигаешь силу ее любви к театру, к литературе, наслаждаешься темпераментом и веселостью этой любви. Честность, порядочность ее натуры угадываешь сразу. Она в театре была не столько автором, сколько другом, само присутствие которого как бы утверждало, объясняло существование нашего случайного коллектива. Она и тогда плохо слышала, а вместе с тем более чуткого собеседника трудно было найти. Всегда подтянутая, собранная, вглядываясь в собеседника своими карими быстрыми глазами через очки, появлялась она в театре — и сразу ее окружали. И насмешливый и веселый картавый говор ее сразу оживлял и освежал. И она болела всеми горестями театра. Чтобы помочь нашей нищете, придумала она «гримированный вечер». Гости платили за вход, и их за особую плату еще и гримировали. И нэпманы вели себя как замаскированные, необыкновенно оживлялись. Таких вечеров было два. Я конферировал. На первом имел успех, а на втором провалился так позорно, что вызвали с какого‑то концерта Бонди и уж он довел программу до конца. Я по глупости и беспечности своей и не подозревал, что конферансье как‑то готовят свои выступления, а выходил и нес что бог на душу положит. Но в театре не рассердились на меня. Без всяких на то оснований они любили меня, верили. Когда два года спустя были напечатаны первые мои детские книжки, Александра Яковлевна сказала радостно: «Ну и хорошо. А то рассказываешь: Женя Шварц, Женя Шварц, а на вопрос, что он сделал, ответить‑то и нечего»…
В июне 1923 года мы с Мишей Слонимским поехали гостить на соляной рудник имени Либкнехта, под Бахмутом. В те дни папой овладел дух предприимчивости, жажда перемен, как это с ним случалось. Он решил перебраться из Майкопа (или Краснодара? Забыл!) в Туапсе, старшим врачом какого‑то санатория. Мы договорились с ним в письмах, что я приеду к нему на лето подкормиться. В Туапсе он не остался, помнится, ему не понравился непосредственный начальник. В Бахмуте в это время в Облздравотделе (или тогда это был Губздрав?) работал мой крестный отец, Иван Петрович Покровский, папин товарищ по университету. Он и уговорил отца переехать в Донбасс, на место хирурга в больницу при рудниках. Папа так и сделал. Ему дали квартирку (две комнаты и кухня), и он позвал меня на лето к себе, что и определило поворот в моей судьбе. В те дни я стоял на распутье. Театр я возненавидел. Кончать университет, как сделал это Антон, не мог. Юриспруденцию ненавидел еще больше. Я обожал, в полном смысле этого слова, литературу, и это обожание не давало мне покоя. Но я был опустошен, как рассказывал уже однажды. Я никогда не любил самую форму, я находил ее, если было что рассказывать. И я был просто неграмотен до невинности при всей своей любви к литературе. Но единственное, чего я хотел, — это писать. Я попробовал через Зощенко устроить две — три мелочи в юмористических журналах тех дней. Точнее, он дал мне два или три письма для обработки. Я сдал их ему, он одобрил и снес в редакцию. И они, как я узнал потом, были напечатаны. Но я к тому времени был уже в Донбассе. Кроме того, я попробовал писать для детей.