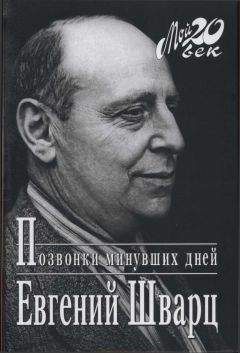Кроме того, я выступал конферансье. Один раз — по просьбе Иеронима Ясинского в ресторане бывший «Доминик», который ему поручили превратить в литературный. Затея эта не состоялась, но я выступал перед столиками однажды. В этот вечер там были Тынянов, Эйхенбаум, еще кто‑то, не помню, — они занимали два больших стола, составив их вместе. Поэтому я имел успех — они относились ко мне с доверием. Я был наивный конферансье. Я, по своей идиотской беспечности, и не думал, что люди как‑то готовятся к выступлению. Я выходил да импровизировал, почему и провалился с шумом на одном из вечеров — кабаре, в Театре новой драмы. (Там устраивались эти вечера, чтобы собрать хоть немного денег на зарплату актерам.) Однажды меня позвали на какой‑то банкет во вновь открываемом нэповском предприятии. Я должен был «внести оживление» за сколько‑то миллионов. Веселить. Что я сделал весьма охотно. Я уже тогда умел не смотреть в глаза фактам. Но все это вместе и страшно напряженная семейная жизнь тех дней привели к полному душевному опустошению… И вот в Донбассе, в Брянцевке, под Бахмутом, когда мне было уже 26 лет, — душа моя стала распрямляться и оживать. Я вернулся к тому состоянию, которое способствовало росту, к полной свободе. Да еще на юге. Да еще летом…
День проходил так: папа рано утром уходил в больницу, а мы пробовали писать. У Слонимского были тогда уже свои навыки в работе, и он знал, чего хочет. Так что к нему слово «пробовали» не подходило. Мы в первые же дни наслышались о Гражданской войне, о Махно, о местных зеленых, которые долго скрывались в соляных рудниках и были обнаружены, когда у рабочих стали пропадать приносимые из дома завтраки. Слонимский стал писать рассказ — забыл его название, в котором сочетались элементы отдельных этих историй и при этом преломлялись так, что делались совсем не похожи на себя. Ничему не соответствовали в действительности. В первых своих рассказах — «Варшава» и «Дикий» — он своей полубезумной манерой что‑то рассказал, но к данному времени он искал путь к полной простоте и терял свои изобразительные средства. Притворялся нормальным. Он начинал, потом переиначивал и перекраивал, ходил по нашим двум комнатам длинными своими ногами и смотрел огромными черными своими глазищами, ничего перед собой не видя. Едва мы приехали, как ему стало казаться, что там, в Москве и Ленинграде, его обижают, пользуясь его отсутствием, или в лучшем случае — забыли. Смеясь беспомощно, он сам себя ругал за неврастению, но тем не менее часто ходил на почту, которая помещалась на станции, но не Соль, а на противоположной стороне, на другой ветке. Там помещалось наше почтовое отделение, оттуда мы ездили в город. Но приходило письмо или денежный перевод, и Мишка успокаивался. Рассказ он написал довольно скоро.
Он работал. А я притворялся, что работаю. В полной невинности и беспечности своей, ожидая, что вот что‑то пойдет само собой, я начал писать сказку для детей в прозе. После первой же страницы я понял, что ничего у меня не выходит. Напряженный тон, неумение рассказывать, неясность замысла. Я поступил просто — взял да и бросил работать. Не сразу. По старой памяти, как в те дни, когда вечерами в доме Бударного притворялся, что работаю над несчастным моим рефератом, так поступил я и здесь. Я, сидя за тетрадью, читал книжку, положенную рядом, хотя никто уже не проверял, работаю я или нет. Так проходило время до трех часов. К этому времени мы шли за папой в больницу и обедать к Васильевне. В шахтерских домиках, в двух шагах от больницы, жили подсобные рабочие, и среди них занимал дот мик тихий печник с длинными усами. За все время нашего знакомства я не услышал его голоса. За него говорила здоровенная и лихая баба, жена его, Васильевна. Кормила она нас обедами дешевыми и обильными. Папа однажды серьезно испугался, увидев, сколько съел я плова. Пока мы сидели за столом, Васильевна говорила без умолку, к нашему удовольствию: она была красноречива. Самые рассказы забыл, но сила была не в них, а в ее манере. «Смотрю и вижу — идет ячейка и ячейкин отец» («ячейка» — председатель комячейки). «Поругалась я с ней, выбежала, упала на скамейку, и у меня от волнения сделался такой аборт!» «У нас два страха — поп и доктор». «Она говорит — ты со всей медициной живешь». «Ваша жена кто?» — «Артистка». (Пауза.) — «Простите, по — нашему, это нехорошее слово». «Я им говорю: “По обычаю на первый обед с новой плиты зовут печника с женой”. А они мне: “Теперь время тяжелое”. — “Ах, так? Приходите тогда ко мне, я всех вас накормлю, всех, будьте вы прокляты”»…
После чая мы шли гулять в степь. Я не припомню за все лето ни одного дождливого вечера. Уходили мы версты за три. Курган, балочка, черное небо в звездах… Влюбился я скоро, едва только стал приходить в себя, и вспыхнуло ощущение: жизнь продолжается. Как все запутавшиеся люди, я не слишком верил своим чувствам. От стольких из них я отказывался, отмахивался, отворачивался как от слишком страшных. Но влюбленность все разгоралась, освещала все таким праздничным блеском, так отогревала, что я в нее поверил. Тут не надо было отворачиваться, как от страшного чувства: «Пропал ты». Или: «Твоя семейная жизнь ужасна». Или: «Ты превращаешься в шута». Или: «Ты не умеешь писать». Тут все радовало.
Чего я ждал от этой любви? А ничего. Несмотря на свои двадцать шесть, почти двадцать семь лет, я легко вошел на школьный старый путь — влюбленности без ясно выраженного желания. Точнее, без названного желания. Я и себе не признавался в желании. И отходил, и воскресал в тепле, а потом и в огне своей любви. И всё. Да и что было делать иначе? Я был женат. Жену, как бы это назвать точнее, не мог обидеть. Жалел. Болел за нее душой. А впрочем, все это неточно. Чем дальше, тем яснее становилось мне, что Наталья Сергеевна видит, что я влюблен, и ей нравится игра, в которую мы втянулись. Так и шли эти летние дни один за другим, и похожие друг на друга и разные…
В 24–м году в подвальчике на Троицкой открылся театр — кабаре под названием «Карусель». Успех «Летучей мыши» и «Бродячей собаки» еще не был забыт, и подобные театрики, по преимуществу в подвалах, открывались и закрывались достаточно часто.
Играя в живой газете РОСТа, познакомился я с сутуловатым до горбатости, длинноруким Флитом. Он был доброжелателен. Горловым тенорком, закидывая назад голову, словно настоящий горбун, остроносый, с большим кадыком, расспрашивал он, встречаясь, как идут мои дела, и пригласил написать что‑нибудь для нового кабаре. Я почтительно согласился. И сочинил пьесу под названием «Три кита уголовного розыска». В ней действовали Ник Картер, Нат Пинкертон и Шерлок Холмс. Выслушали пьесу в кабаре угрюмо и стали говорить, что в «Балаганчике» у Петрова шла уже пьеса на подобную же тему, сочиненная Тимошенкой. Я сразу ужаснулся. Как я смел думать, что могу сделать что‑нибудь для этих избранников. Я объяснил только, что программу с подобной пьесой в «Балаганчике» не видел, и удалился. Но пьесу все‑таки решили они ставить. Странное дело, отказ ужаснул меня, а согласие — не обрадовало. И я стал бывать на репетициях с полной уверенностью, что меня это все не касается. В «Карусели» работали Курихин и жена его, Неверова, молоденькая, стройная, казавшаяся мне красавицей. Казалась мне красавицей больше, чем красавица Казико, и я робко и почтительно был в нее влюблен. Был там молодой артист с белыми глазами, вечно пьяный и не веселый и не грустный от этого, а ошеломленный.