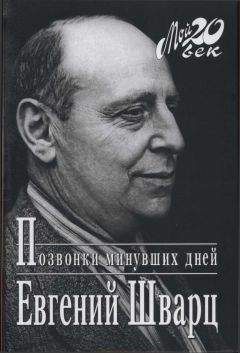Когда смотрел он на меня своими белыми глазами, я не был уверен, что он меня узнает или даже видит. Заметной, а может быть, и определяющей фигурой «Карусели» являлся Агнивцев, высокий — высокий, со слабой, как бы виноватой улыбкой, то ли вечно с похмелья, то ли одурманенный кокаином, полуресторанное, полутеатральное экзотическое растение, погибающее в прокуренном полуподвале. Флит писал легко, но всю жизнь, до наших дней, как начинающий. Агнивцев — гораздо более ловко, с красивостью ресторанной, туманной, соответствующей полуподвальному воздуху, которым дышал. Актер с белыми глазами, Флит и Агнивцев были основными авторами программы. Наибольший авторский успех имел белоглазый актер. Он написал пародию на пьесу Евреинова «Самое главное», шедшую у Петрова. В евреиновской пьесе актеры вмешиваются в жизнь и делают людей счастливыми. У белоглазого все изображено гораздо реалистичнее. Из агнивцевских пьесок помню две: «Снежинка» и «Лампочка Светлана». В первой из них играла Женя Гидони, молодая актриса Александринки. Считалась она восходящей звездой, крепко стояла на почве, которая казалась мне столь призрачной. Красивая, несколько большеголовая, черноглазая, обладавшая низким, сильным голосом, она имела все данные, чтобы стать героиней — амплуа, считавшееся редким. В «Снежинке» выходила она в белом капоре, в костюме, отделанном белым мехом, освещенная лиловым светом. Черные ее глаза строго смотрели на ресторанные столики зала. С колосников сыпался снег. Играла негромкая музыка. Официанты переставали подавать, и Гидони низким своим голосом читала агнивцевские стихи:
И залетая в авантаже
Во времена Елисавет
За слишком низкие корсажи
Дам, выходящих из карет…
А нэп вступал в свои права. Кончился счет на миллиарды. Кто‑то из актеров, приехав в театр, сказал: «Поздравьте, братцы! Я заплатил извозчику тридцать копеек». И показал серебряную мелочь, и мы, как дикари, подивились на нее. В ресторанном зале все чаще стали появляться люди в визитках, со следами важности на лице. Ресторан каждый вечер заполнялся до отказа. Но вот на Садовой, в подобном же заведении, не то «Ша — Нуар», не то «Летучая мышь», проверили документы у посетителей и некоторых задержали. В «Карусели» встревожились: как бы это не отразилось на сборах. И в самом деле, люди в визитках со следами важности исчезали, как призраки. Владельцем полуподвальчика являлся грузин с полуприличной фамилией Мачабели. Он скрывался в своем кабинетике возле кухни, и я тщетно пытался выжать из него причитающиеся мне деньги. Я и сам не был уверен, что они причитаются мне. А толстый Мачабели, фигура вполне подходящая для шашлычной, чувствовал, что такого рода поставщику его заведения отказать проще простого. Флит дал мне совет обратиться в Общество драматических писателей, где-то на Пушкинской. Кажется, на Пушкинской. И там за столом восседал плотный человек с остатками былой важности, которая сразу расцвела, когда появился я. Он долго не понимал, чего я хочу, что за театр, какая пьеса, словом, отводил душу. И это посещение не заставило Мачабели раскошелиться. Тем не менее я к Масленице написал для «Карусели» еще одну пьесу. Первая прошла благополучно, потому что ее лихо оформил Акимов. Я так старательно держался в тени, что даже и не познакомился с ним. А на вторую — «Бланш у миллиардера» — я даже и смотреть не пошел. И в самом деле, успеха она не имела. А вскоре и театр закрылся: не то Мачабели сбежал, не то сборы сильно упали — не знаю. Я к этому времени во второй раз уехал в Донбасс на заработки. Правда, «Рассказ старой балалайки» был уже принят Маршаком в журнал «Воробей», но это не спасало от нищеты. Я впервые в жизни так много и так легко работал, как в Артемовске в то лето. И театр — кабаре «Карусель» скоро исчез из моей памяти настолько, что, проходя по Троицкой в последующие годы, я ни разу о нем и не вспомнил.
Я многое понял, но ничему не научился. Я ни разу не делал выводов из того, что понимал, а жил как придется. Когда я вернулся из Артемовска, то недели две испытывал страх: я был без места. Но вот Слонимскому поручили редактировать журнал «Ленинград» при «Ленинградской правде», и я пошел по его рекомендации туда же в секретари. А в «Радуге» поручили мне подписи, стихотворные подписи к двум книгам. Издательство «Радуга» процветало в те дни. Первые, а возможно и лучшие, книги Маршака и Чуковского расходились отлично. Налогами частников еще не душили, и во всех книжных магазинах продавались книжки издательств «Мысль», «Время». И еще многих других, главным образом — переводы. Известные переводчики нанимали белых арапов — людей, просто знающих язык, и только редактировали, а иной раз и не редактировали переводы своих подручных. И «Радуга» оставила мало следов в моей душе. Где помещалось издательство? На Стремянной, в квартире владельца, Льва Моисеевича Клячко. И теперь, проходя мимо по улице, не вспоминаю ничего. В издательствах дела шли хорошо, и наш Клячко появлялся в издательстве из недр своего дома, сияя, с цветком в петлице, живой, по — еврейски скептический, знаменитый, в свое время король репортеров, статьи которого некогда вызывали запросы в Государственной думе. Он оставил книжку воспоминаний, написанных суховато, как учили его в солидной газете «Речь». Рассказывал он куда живей. Его легкая, щегольская, чуть слишком щегольская фигурка, седые виски, темные глаза, упрямая вера в самого себя и свое дело — все его живучее естество было в «Радуге» самым привлекательным явлением. Редактор, долговязый, придирчивый старик, которого Клячко уважал по неким доисторическим причинам, роли в редакции не играл. Все финансовые переговоры вел хромой человек, компаньон Клячко. Деньги тогда были дороги.
Несмотря на процветание издательства, деньги получить было в высшей степени трудно. Платили они мне, по — моему, 250 рублей за книжку. Но по частям. Один раз заплатили талонами на магазины Пассажа. Целый лист, похожий на листы почтовых марок, с талонами разной ценности. Я купил себе костюм. В ожидании денег сидели мы в проходной комнате. В глубине, за тремя комнатами редакции, ощущалась семья Клячко. Появлялась и исчезала жена с несколько обиженным выражением. Дочка. Часто сидел со мною Коля Чуковский. Тощий, добродушный, чахлый, вечно выпивший Андреев, иногда с женой, тоненькой, молоденькой еврейкой, беспокойной, ласковой, с глазами газели, как говорили в редакции. Она все улыбалась, заглядывая в глаза. Появлялся Яков Годин. Жил он где‑то в деревне, ходил в сапогах. Он приводил Ауслендера, седого, рыхлого, едва передвигающего ногами. Раза два видел я там Мандельштама — озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение. Корней Иванович и Маршак, словно короли, показывались не так часто, и денег, разумеется, ждать им не приходилось. Но и с нами расплачивались в конце концов. И впервые с приезда жить нам в Ленинграде стало полегче. «Рассказ старой балалайки», написанный до «Радуги», все лежал в Госиздате и был напечатан в 25–м году, уже после того, как вышли «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки». На книги свои я смотрел с тем же странным чувством, как на работу в «Карусели». Я начинал, едва начинал, приходить в себя после падения всех сил и всех чувств, после актерской полосы моей жизни. Но я был как в тумане. Сегодня я вижу то время яснее, чем тогда, в те дни.