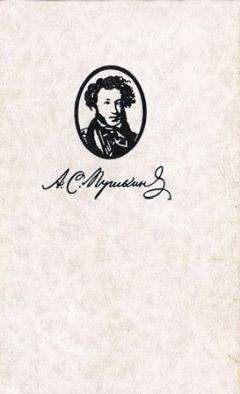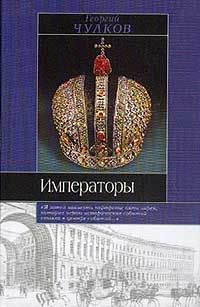Ознакомительная версия.
В ту эпоху, однако, я был ближе к революции, чем Блок. Правда, я никогда не был в партии, дорожа вольностью лирика и скитальца, но связь моя с революцией была реальна еще со студенческой скамьи, а Блок в университете так был равнодушен к общественности, что, по рассеянности, как-то даже скомпрометировал себя в глазах товарищей во время студенческого движения. Мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока «слушать музыку революции».[372] Правда, впоследствии мы стали различать разные мотивы в этой музыке и иногда расходились в их оценках.
Впрочем, наше отношение к революции не всегда могло удовлетворять трезвых политиков. Я помню наши скитальчества с Блоком в белые петербургские ночи и долгие беседы где-нибудь на скамейке «Островов».[373] В этих беседах преобладали не «экономика», «статистика», не то, что называется «реальной политикой», а совсем другие понятия и категории, выходящие за пределы так называемой «действительности». Чудились иные голоса, пела сама стихия, иные лица казались масками, а за маревом внешней жизни мерещилось иное, таинственное лицо. Вот в эти дни слагалась у меня в душе та, по слову Вячеслава Иванова, одегетика,[374] которую я назвал «мистическим анархизмом». Мои тогдашние манифесты и брошюры (опубликованные после закрытия «Вопросов жизни») вызывали, как известно, всеобщую брань и насмешки. В самом деле, все эти тогдашние мои публикации были весьма незрелы, неосторожны и самонадеянны, но все же в них заключалась некоторая правда, никем до меня не высказанная. Первоначально Блок почувствовал эту правду, т. е. что «уж если бунтовать, так бунтовать до конца», не останавливаясь на половине пути, но потом — под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил. Это случилось спустя два года после первых наших ночных бесед о «перманентной революции».
В это время произошло мое духовное сближение с Вячеславом Ивановым, который на своих знаменитых «средах» на «Башне» (он жил в то время на Таврической улице) объединял самых разнообразных людей, начиная с Блока и кончая многими из теперь всему миру известных большевиков.[375] Его концепция «неприятия мира» встретилась с моим «мистическим анархизмом». Три сборника «Факелов» стали излюбленной мишенью для обстрелов критиков всех сортов и качеств. Яростнее всего восстали против «Факелов» те, кому, казалось бы, менее всего надлежало против них восстать. Тут уже было дело не в идеях, а совсем в ином, о чем говорить сейчас невозможно, да и впоследствии едва ли понадобится.[376]
Помимо идей, параллельно с теорией, шла тогда весьма сложная запутанная жизнь. Чувство «катастрофичности» завладело поэтами с поистине изумительною, ничем не преоборимою силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы. И в то время, как я и Вячеслав Иванов, которому я чрезвычайно обязан, не потеряли еще уверенности, что жизнь определяется не только отрицанием, но и утверждением, у Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного «нет». Он уже тогда ничему не говорил «да», ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря. Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый, загадочно красивый, он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и в сущности — уже безумным человеком. Блок уже тогда сжег свои корабли.
Великое свое отрицание Блок оправдал своим подлинным страданием. Размножившиеся тогда декаденты в большинстве случаев из-за моды «эпатировали буржуа», и с их легкой руки и до наших дней возникающие «школы» продолжают свое легкомысленное занятие, даже не догадываясь, какою ценою купили себе право на это отрицание старшие декаденты.
II
Мои отношения с Блоком всегда были неровны. То мы виделись с ним очень часто (однажды случилось, что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга), то нам не хотелось смотреть друг на друга, трудно было вымолвить слово и прислушаться к тому, что говорит собеседник. На то были причины.
Иногда наши разногласия достигали какого-то предела и находили даже внешнее себе выражение. Эти отталкивания случались именно около тех тем, которые казались каждому из нас самыми заветными. Таких «взрывов» в наших отношениях было три. Первый — это письмо Блока о Соловьеве; второй — отречение Блока от «мистического анархизма»;[377] третий — спор наш об интеллигенции и народе.
Вот это последнее столкновение произошло в 1908 году по поводу доклада Блока «Интеллигенция и народ», прочитанного им сначала в Религиозно-философском обществе, а потом в «Литературном обществе».[378] Содержание этого доклада теперь всем известно, потому что в 1919 году «Алконост» издал его вместе с другими статьями Блока отдельной книжкой.[379]
Доклад Блока был весьма примечателен своим пророческим духом. Поэт в самом деле с необычайной остротой предчувствовал стихийный характер надвигавшейся революции. Он был сам сейсмографом, свидетельствующим, что близко землетрясение. Чувство катастрофичности всегда было присуще и мне — и не эти предчувствия вызывали мое возражение Блоку. Мне был неприятен в его докладе тот невыносимый удушающий пессимизм, которым веяло от всего этого мистического косноязычия. Я тогда же устно и печатно возражал Блоку.[380]
Теперь, конечно, я бы иначе возражал ему, но от сущности моего тогдашнего возражения я и теперь не отказываюсь. Я и теперь думаю, что, приписывая нашей интеллигенции такие свойства, как «индивидуализм, эстетизм и отчаяние», Блок глубоко ошибался. Я не отрекусь от моих тогдашних слов: «Неужели не ясно, что все три темы, влюбившие в себя поэта, — индивидуализм, эстетика и отчаяние — все эти темы являются предметом ненависти нашего интеллигента? Неужели Блок не понимает, что влюбленность в эти темы есть крайнее декадентство? И неужели не очевидно, что декадентство полярно по отношению к интеллигенции? Интеллигенция, со времени Белинского утверждавшая идею общественности и народолюбия, со времени Писарева провозгласившая парадоксальное разрушение эстетики и, наконец, в лице своих революционеров объявившая войну апатии и косному отчаянию, — что общего имеет эта интеллигенция с тем орхидейным интеллигентом, который расцветает в декадентской оранжерее? Образ двойника заслонил Блоку образ интеллигенции, и печать смерти на лице этого двойника Блок принял за печальный знак гибели всего нашего общества».
Ознакомительная версия.