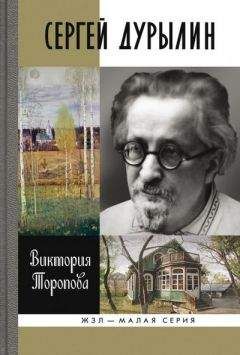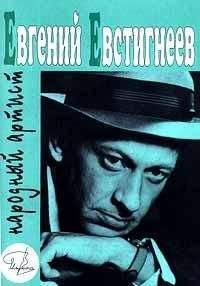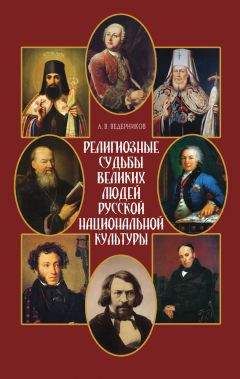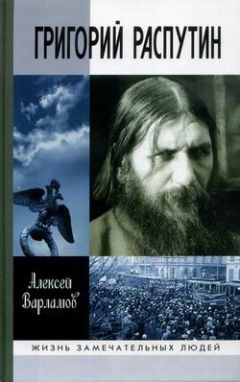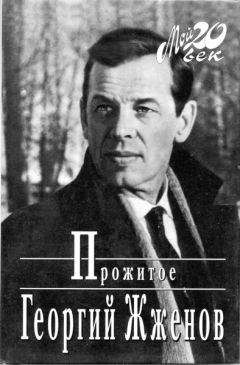Не будем приводить здесь всё стихотворение — оно довольно большое. Далее Сидоров вспоминает и студию Крахта на Пресне, и молодых Волошина, Садовского, Эллиса. А заканчивает так:
…Шестнадцать лет! На огненной планете!
Столь многих нет — и мнится чудом мне,
Что мы с тобой у Макса в кабинете
Читаем повести о старине.
Должно быть, это судьбы повелели
И думать радостно, что суждено
В благословенно-горьком Коктебеле
Минувшему быть с будущим — Одно!
У Дурылина творческий подъём. Он пишет много стихов, поэтические зарисовки «Старая Москва», шестую тетрадь «В своём углу». Возле него, как везде, собирается молодёжь. Он ходит с мальчиками на дальние прогулки в горы, говорит с ними о том, «о чём когда-то, под другою луною» он говорил с Мишей Языковым, с Колей Чернышёвым. Его редкий дар открывать людям глаза на лучики солнца, которые, как странники Божии, проникают в просветлевшую вдруг душу, давно уже отметил юный Серёжа Фудель.
В это лето Сергей Николаевич подружился с Максом Волошиным, с которым познакомился в 1912 году в доме М. К. Морозовой. Но тогда Волошин периода его «блуждании» не вызвал симпатию у Дурылина. Теперь же он полюбил его. И взаимно. Их дружба и переписка оборвались лишь со смертью Волошина в 1932 году. А сейчас в Коктебеле Дурылин посвятил стихотворение «этому новому для меня Максу, — мудрецу, поэту, мыслителю, человеку»:
Я знал тебя на севере, где Город,
Юродствуя о дьяволе, стоит,
Где облик человеческий расколот,
Как статуя, о сталь холодных плит.
С тех пор прошло… нет, не пятнадцать лет:
Десятилетий топких вереницы, —
Коль хронологию имеет бред,
И у бесов есть счётные таблицы.
И я пришёл к тебе на юг. Внимаю
Твоим речам и мудрым, и простым.
Смотрю на дом, на книги. И сверяю
Твой новый облик с ведомым былым.
И над тобой, над новым я стою,
Как над осенней плодоносной нивой.
Каким дождём Господь кропил твою
Пшеницу волею многолюбивой!
И, сев приняв, хранил его покоем,
Таил в земле, в сей скрыне глубины,
И для налива — зноил ярым зноем,
И нежил ветром ширь его волны.
И пажить — вот — под золотом густым:
Она питать, не только тешить может,
Как колосом разгульно молодым.
Блажен, кого Господь, любя, умножит
И осчастливит ростом и страдою,
И всходами, и жатвой золотой!
Я, как над нивой зрелой, над тобой
Стою — и радости своей не скрою!
Волошин подарил Дурылину машинописный экземпляр поэмы «Путями Каина» с дарственной надписью: «Милому Серёже, принёсшему мне на-голосок из самых глубоких недр русских пропастей — с братской любовью — Макс. Коктебель, 2 сентября 1926».
Высоко оценил Волошин поэтический цикл «Старая Москва» (не опубликован), где каждое стихотворение посвящено или конкретному лицу, или типажу. Эти стихи он читает и перечитывает вслух всем, кто к нему зайдёт. «И каждый раз всё с бо́льшим чувством. Есть некоторые строфы (особенно в „Купце“, в „Генерале“, в „Протоиерее“[327]), которые не могу читать без подступающих слёз. Какая прекрасная и полная книга это будет. „Украдкой грудь крестя прадедовским крестом“ — это одно из самых жгучих для меня мест»[328]. Одно из стихотворений цикла Дурылин посвятил Григорию Алексеевичу Рачинскому (1859–1939) (который своим студентам казался похожим на Гомера): «В память и благодарность дружбы и единомыслия. С любовью С. Д.»:
В нём летопись преданий всех московских,
Страница за страницей, вплетена
В живую повесть мнений философских
И анекдотов от Карамзина
До Брюсова и Мережковских.
…………………………………
И головою с бобриком седым
Поникнув над мистическим трактатом,
Как часто кажется он молодым
И каждому, — по музе, — братом.
Всё старилось с годами перед ним,
Всё молодое: Брюсов, Белый, Эллис, —
Лишь молодо под солнцем молодым
Его седины снежные белелись![329]
Когда в 1927 году в Москве открылась персональная выставка акварелей Волошина, Дурылин по его просьбе выступил на вернисаже с докладом о его творчестве «Киммерийские пейзажи М. Волошина в стихах»[330]. Он проанализировал и поэтические, и живописные творения и, в частности, развил признание самого поэта: «Мои стихи о природе утекли в мои акварели». «Собрание сочинений Максимилиана Волошина, — сказал Дурылин, — было бы полным в том случае, если б страница стихов чередовалась со страницей его рисунков». Волошин подарил Дурылину своё стихотворение, переписав его на акварельный рисунок, на котором изображены дом поэта, Карадаг и коктебельский залив, освещённый луной. «Милый Серёжа, — написал он, — позволь мне посвятить тебе это стихотворение, написанное воистину „на дне преисподней“ — в 1921 году в Феодосии:
Я не сам ли выбрал день рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?
Апокалипсическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
В скрежете и в смраде — верю!
Верю в правоту верховных Сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: Ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия…
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи! — вот плоть моя…»[331]
Особенно тесно Сергей Николаевич общается в Коктебеле 1926 года с Сергеем Михайловичем Соловьёвым. Дурылин относится к нему с тёплым участием. Сожалеет, что тяжело ему жить, так как «ему скучно, если никто не говорит о своих „верую“, и он рвётся в бой, вызывая на прения — меча камни из пращи своего собственного „верую“. Меняя „верую“ славянское на „credo“ латинское, потом латинское — на славянское, наконец, опять славянское — на латинское, — он погубил этим „credo“ в себе поэта. <…> Каждый стих его теперь — „верую“, каждое слово „credo“» [332].
У Волошина Дурылин познакомился с художником Константином Фёдоровичем Богаевским, который жил в Феодосии и пешком приходил к своему другу Волошину. С его картинами Дурылин был знаком раньше по выставкам и восхищался ими. Теперь его очаровал сам художник. «В Богаевском есть тот долгий и мудрый настой тишины, который делает глубоким искусство и душу художника. <…> Это один из тишайших людей, которых я только видел <…> и вместе с тем это — „взыскательный художник“, самый строгий судья своего искусства, — притом не выключающий из объектов этого суда и души своей. <…> Дело в том, что он не пишет „с натуры“, что всё на его вещах: горы, море, небо, деревья — созданы им в его собственные шесть дней, правда, из материалов библейского шестидневства. <…> Крым Богаевского — трагический, царственно-пустынный, героически-безмолвный, страдальный и прекрасно-умирённый надзвёздным покоем неба, — вечен. Богаевским провидено некое лицо земли, верный образ „её самой“, — прекрасное, царственное лицо…»[333] Дурылин мечтал написать книги о Волошине и о Богаевском, собирал материал, но… всё сгорело в Киржаче при пожаре в 1933 году.