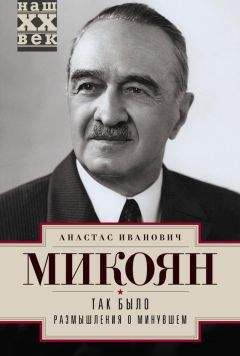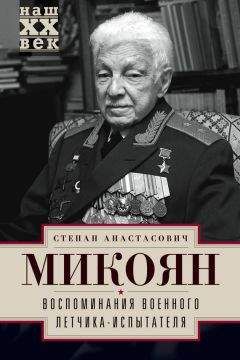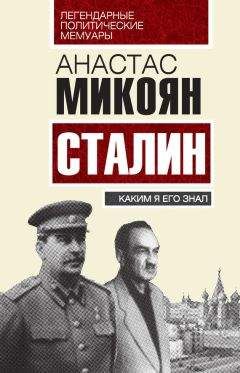Министерство дало согласие, и мы — Караев, Чураев и я — три представителя, избранные стачкомом, пошли вечером в министерство труда. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в большой зал заседаний. Председательское место за столом занял министр Сафикюрдский, справа от него по его приглашению сели мы, напротив представители капиталистов: три тучные, пожилого возраста персоны. Один из них был русский, другой — азербайджанец, а третий — армянин. Чуть поодаль сидели фабричные инспектора, а также член парламента Абилов. Особняком держался представитель английского командования капитан Уолтон.
Капиталисты выступали по очереди и горячо спорили, считая неприемлемым ряд важных пунктов договора. Однако и они заявляли, что если не будет разрешен вывоз нефти в Астрахань, то не будет подписан никакой коллективный договор. Таким образом, в одном вопросе мы были с ними едины. В то же время это означало прямой конфликт с английским командованием, запрещавшим вывоз нефти в Астрахань по политическим соображениям: не давать горючего Советской власти. Для транспортировки же ее в другие места не было никаких технических средств. Нефтепромышленность Баку была в тупике.
Прения шли долго, около трех часов. Никаких практических результатов не предвиделось. Тогда я заявил министру примерно следующее: мы понимаем, что вывоз нефти — это поддержка не только бакинской нефтяной промышленности, но и Советской России, и мы за такую поддержку, потому что лучшим другом азербайджанского народа являются не английские империалисты, а Советская Россия. Здесь экономические интересы Азербайджана и Советской России полностью сходятся. Теперь вы отклоняете это ввиду того, что английское командование против. Где же тогда независимость Азербайджана? Сафикюрдский пробормотал что-то очень невразумительное о том, что «нельзя не считаться с реальным положением». На этом переговоры закончились.
Еще в начале стачки ряд эсеров и меньшевиков, отстраненных от выборных должностей, предложили нам свои услуги для различных поручений. Мы на это согласились, тем более что некоторые эсеры уже работали у нас по таким же поручениям. В Баладжарах у нас тогда не было своего работника, и эсер Ребрух был послан туда в качестве нашего уполномоченного. Надо сказать, что эсеры, пришедшие к нам, в первые дни довольно исправно выполняли все задания стачкома. Но чем напряженнее становилась борьба, тем быстрее скатывались они к анархическим действиям. В Баладжарах, например, они предлагали разобрать рельсы, взорвать путь, чтобы помешать движению поездов, они предлагали также взорвать линию электропередачи в город и т. п.
Понятно, что все эти предложения были нами решительно отвергнуты.
Как-то во время заседания Центрального стачкома я вышел в соседнюю угловую большую комнату, где тоже была контора профсоюза, и вдруг увидел полицейских, направивших на меня со всех сторон дула маузеров. Раздался окрик: «Стой!» Я тут же бросился обратно в комнату заседания и сообщил товарищам, что мы окружены полицией. В суматохе нам удалось, к счастью, все бумаги уничтожить. В общей сложности нас оказалось человек сорок: кроме членов стачкома в комнате находились представители из районов, молодые рабочие-связисты и работающие на ротаторе, который мы к тому времени приобрели для выпуска листовок.
Нас вывели на улицу, окружили большим нарядом полицейских и повели в жандармское управление. Там началось выяснение наших фамилий. По дороге мы сговорились между собой, что основные руководители стачки — Чураев, Анашкин и я — возьмут на себя всю ответственность. Большинство товарищей, которых полиция знала плохо или совсем не знала в лицо, должны были скрыть свои настоящие фамилии и отрицать участие в руководстве стачкой. Остальные, которым опасность не угрожала, фамилии свои могли назвать.
Среди нас был недавно приехавший из Тифлиса Георгий Стуруа. Полиция знала, что он входит в состав стачкома, но не знала его в лицо. Начальник сыскного отделения спросил: «Кто здесь Стуруа?» Мы ответили, что Стуруа уже уехал обратно в Тифлис. При опросе он назвался Ахабадзе.
После окончания процедуры выяснения личности арестованных начальник сыскного отделения заявил, что мы пятеро — Чураев, Мирзоян, Коваль, Анашкин и я — изолируемся от всех остальных арестованных. Кроме того, мне и Ковалю было объявлено, что мы арестованы по распоряжению английского штаба за подготовку вооруженного восстания и потому находимся в распоряжении английского командования. Нас пятерых повели в сыскное отделение полиции. Остальные товарищи остались в жандармском управлении, не зная, что с ними будет дальше. Пока нас вели по улице, наша молодежь следила, куда нас ведут.
Нас поместили в темной и грязной, с разбитыми окнами комнатушке сыскного отделения. Но все мы настолько устали, что тут же улеглись на полу, чтобы хоть немного поспать. В течение последних пяти дней я спал, может быть, всего лишь несколько часов. Но и тут поспать не удалось. Из соседней комнаты послышались страшные крики и вопли. Полицейские избивали там каких-то арестованных. Думалось, что скоро очередь может дойти до нас.
Наконец вызвали в кабинет к начальнику бакинской сыскной полиции Фаталибекову. Он стал спрашивать, кто мы такие. Мы назвали свои фамилии. Фаталибеков начал допрос с Чураева и Коваля, стараясь уязвить их самолюбие и добиться, чтобы они признали себя большевиками. Он говорил им: «Вы трусы, вы никогда не сознаетесь, а нам вся эта канитель надоела». Особенно зло он нападал на Коваля, упорно заявлявшего, что он не большевик. Видимо, у Фаталибекова было указание англичан арестовать Коваля во что бы то ни стало, независимо от его участия в стачке. Мы заступились, заявив, что из нас пятерых только трое являются большевиками: Мирзоян, Анашкин и я. Чураев же социал-демократ, меньшевик, а Коваль — беспартийный. Тогда он взял с нас подписку, что мы трое большевики, а Коваль и Чураев никакого отношения к партии большевиков не имеют.
После Фаталибекова нас передали на допрос к его помощнику Бачурину, царскому полковнику. Он никак не мог понять, что такое рабочая конференция, Президиум конференции, рабочий клуб, стачком, безбожно путал все эти понятия, но допросил каждого из нас подробно и без грубостей.
Наконец часам к двум ночи вся эта канитель закончилась. Бачурин созвонился со штабом английского военного командования и, запросив, как дальше поступить со мной и Ковалем, находившимися в непосредственном распоряжении английского военного командования, получил распоряжение направить всех в тюрьму.
Часа в три-четыре ночи нас повели в центральную тюрьму и посадили всех в одну камеру на пятом этаже. Это был корпус для смертников и вечных каторжников. Камеры здесь были с толстыми стальными дверьми, с маленькими отверстиями для глаза — волчками. На требование дать кровати нам ответили отказом. Расположились на цементном полу, но спали как убитые.