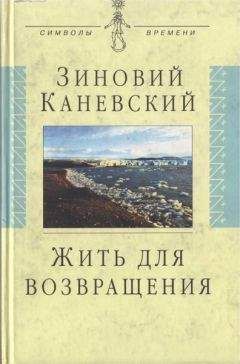Остальное я проделал полусознательно. Скользя и падая, я в несколько судорожных прыжков преодолел расстояние до домика, к ближайшей стенке которого был прислонен снятый с предохранителя карабин с патроном в стволе. Я держал оружие наготове и днем и ночью, хотя, безусловно, до того момента не верил в реальность его применения. Трясущимися руками схватил карабин и решился взглянуть на медведя — он, по-прежнему приплясывая, опять был возле меня. Значит, шел параллельным курсом! Целиться не пришлось, слишком близко он находился, и едва зверь опустился на все четыре лапы, я выстрелил ему в голову.
Словно в бреду, не оборачиваясь, я ударил ногой в дверцу и вполз вовнутрь, видя при этом, как медведь тяжело заваливается набок. Очутившись в домике, накинул на дверь хилый крючок, дослал в ствол патрон, схватил левой рукой лежавший на столе револьвер и замер. Ветер выл нещадно, этот вой усугублялся разбойничьим посвистом в тросах, служивших растяжками радиомачты. Впечатление было такое, что эти звуки — рычание и хрипы не убитого, а лишь раненого зверя. Сейчас он поднимется со льда и навалится всей тушей на мое жалкое строение, и оно вместе со мною, вместе с самим медведем полетит на дно бездонной, в сущности, трещины!
Единственное окошко в домике на Барьере смотрело вбок, на метеоплощадку, я видел лишь струйки крови, растекающиеся по льду. Наконец решился, рывком распахнул дверцу и… Медведь лежал на правом боку прямо у входа, и шерсть на нем ходила ходуном. Не сообразив, что это играет ветер, я подумал, что он дышит, и в панике начал посылать в тушу пулю за пулей. При каждом попадании тело медведя вздрагивало, и мне вновь начинало мерещиться, что зверь только притворяется мертвым, что сейчас он вскочит и бросится на меня.
Не знаю, как я прожил шесть часов, остававшихся до срока радиосвязи, и еще столько же плюс полстолько, прежде чем ко мне пришли люди с берега. По их признанию, они сперва не очень-то поверили моей отчаянной радиограмме, всем казалось невероятным, что медведь, минуя зимовку, явился в центр безжизненного ледника. Тем не менее они быстро собрались в дорогу, и неудивительно: на станции стало совсем худо с продуктами, и народ горел желанием разжиться на Барьере Сомнений солидным запасом медвежатины (если, конечно, герой-охотник не спутал зверя с каким-нибудь транзитным песцом!).
По определению дяди Саши, медведь был полуторагодовалым самцом, можно сказать, подростком, однако со «взрослыми» лапами и когтями. Очень симпатичный, с аккуратным черным носиком-пуговкой, трогательными ушками и совершенно пустым желудком, чем и объяснялось его появление на леднике: голод гнал зверя на запах жилья, скудных остатков пищи. Вероятно, до полярной станции он просто не дошел, сразу взяв курс на мой домик.
Пришедшие «ошкурали» добычу, разделали тушу, утащили в рюкзаках добрый центнер медвежатины, оставив кое-что и мне. Перед уходом поручили мне столь же успешно охотиться и впредь во имя сытости всей зимовки. Дядя Саша обстоятельно научил меня обезжиривать мясо, выдерживать его определенный срок в уксусной эссенции и лишь потом жарить отбивные: медвежатина сильно пахнет рыбой, и многим представляется несъедобной, однако если все делать по правилам, она не уступит по вкусу телятине, в чем я смог со временем убедиться. Сырую тяжёлую шкуру, мой первый (и последний) крупный трофей, развесили сушиться на растяжках антенной мачты. Она громко хлопала на ветру, и я, сидя в домике, вздрагивал — мне чудилась мама подростка, явившаяся отомстить за его гибель. Когда же шкура просохла, я принялся за ее обработку, за штопку бесчисленных дырок от моих дурацких пуль, стал отбеливать снегом ворс, который имел желтый, «летний» цвет, свойственный периоду линьки.
Михаил ужаснулся при виде домика, нависшего над трещиной. Меня обвязали веревкой и опустили метров на пять вниз оценить ситуацию заинтересованными глазами. Дом покоился на мощном снежном блоке, уходившем в глубину и плотно прижатом к ледяным бортам. Значит, жить можно, тем более, что сезон таяния заканчивался и снег уже не проседал. Скрепя сердце начальник разрешил продолжать наблюдения на Барьере.
Однажды я предпринял путешествие вниз по ледопаду, причем не в обход трещин, а по твердым перемычкам между ними. Приблизительно в трех километрах ниже домика я вдруг увидел прямо перед собой, на относительно ровном ледяном пятачке, какое-то чуждое глазу нагромождение. Это были не камни, не вытаявшая из-подо льда внутренняя морена, т. е. куча песка, глины, мелкой щебенки, и уж никак не туша зверя. Подойдя ближе, я понял, что наткнулся на остатки лагеря экспедиции Ермолаева 1932–1933 годов.
Ошеломленно взирал я на куски истлевшего брезента былой палатки, на ржавую бочку из-под бензина (у них имелись аэросани, подаренные экспедиции лично Андреем Николаевичем Туполевым), на груду полотняных мешочков, из которых на лед высыпался желтый порошок. Это была взрывчатка, с ее помощью исследователи зондировали верхние слои атмосферы, а чувствительные приборы, установленные в нескольких пунктах Арктики и на Большой земле, фиксировали результаты взрывов. Судя по статьям тридцатых годов, Ермолаев и Вёлькен проводили эти наблюдения в верхней части Барьера Сомнений, примерно там, где стоял мой домик. Иными словами, за четверть века их палатка совершила «плавание» вместе с ледником Шокальского на добрых три километра, со средней скоростью сто двадцать метров в год. Следовательно, и мое жилище рано или поздно спустится к Баренцеву морю, если, конечно, не рухнет по пути в злосчастную трещину!
Чудеса, ей-богу: лежу я в палате, ясно вижу перед глазами свой ледник, и вдруг в пейзаж врывается Наташа, а рядом с нею возникает незнакомый мужчина лет пятидесяти, статный, красивый.
— Зинок! — не в силах скрыть возбуждение, кричит моя жена. — Знаешь, кто это? Михаил Михайлович Ермолаев! Он узнал о том, что у нас произошло, и сегодня специально приехал из Ленинграда.
— Друг мой, — вступил в разговор Михаил Михайлович, — позвольте мне так вас называть, запомните, пожалуйста, что отныне у вас в Ленинграде есть близкий и любящий вас человек.
Мы допоздна разговаривали с ним о Новой Земле, о том, что пережили там, каждый в свое время и по-своему. А утолив «первый голод», стали слушать его рассказ о том, что случилось с ним. Об аресте в 1938 году, когда на его глазах уничтожили готовую докторскую диссертацию под названием «Оледенение Новой Земли»[1], о тюрьмах, лагерях и ссылке, о небытии продолжительностью восемнадцать лет, о его жене Марии Эммануиловне и трех детях, успевших за те нескончаемые годы сделаться взрослыми, о его старшей сестре Елене Михайловне, принявшей великие муки после ареста и расстрела мужа, знаменитого полярного исследователя Рудольфа Лазаревича Самойловича.