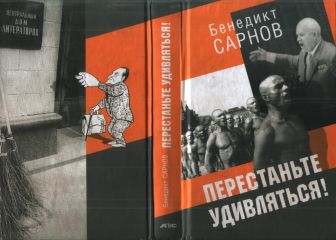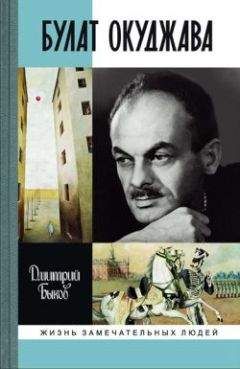Александр БОРИН. А идти служить во власть?
Б.С. Если идешь служить делу, а не власти – пожалуйста.
Владимир ВОЙНОВИЧ. Нет такого человека, который, придя во власть, остался бы самим собой.
Б.С. Если хватит ума, самоиронии – останется. Только не воспринимай себя слишком всерьез, не отождествляй себя с властью, сохраняй дистанцию.
В.В. Нет, исключено. Знаешь, как это происходит? Подспудно и незаметно. Вот ты приходишь во власть и сразу же становишься всем нужен. Этот просит продвинуть одно очень важное дело, тот – другое. А тут вдруг звонит Сарнов. Он как раз ничего не просит, он просто хочет, как прежде, общаться. Но у тебя уже не хватает ни сил, ни времени на обычные душевные движения. И ты невольно начинаешь возводить барьер между собой и Сарновым. Тебе неудобно сказать: «Знаешь, Бен, мне сейчас не до тебя». И ты начинаешь лгать, прятаться, отстраняться.
Б.С. Считаешь, это неизбежно?
В.В. Абсолютно неизбежно. Дальше Сарнов, скажем, приглашает на день рождения. Но у тебя обязательно возникает вопрос: а кто еще там будет? Не окажутся ли там люди, которые начнут обращаться к тебе с разными просьбами? Может, лучше, разумнее не идти? Эти соображения у тебя непременно появятся, и не потому, что ты плохой, а потому, что твое положение заставляет тебя защищать себя некоторой броней. Ну и, наконец, в наших российских условиях тот, кто у власти, само собой, втягивается в коррупцию.
Б.С. Взятки, что ли, берет?
В.В. Зачем взятки? Просто меняется образ жизни. В 1955 году я вернулся из армии, и один мой знакомый устроил меня инструктором в исполком. Должность маленькая, зарплата нищенская, но все равно власть. Ответственный секретарь исполкома посадил меня в машину и сказал: «Буду вводить тебя в курс дела». И мы отправились. Приезжаем в первый сельсовет. Разговоры о том о сем – и прямо в магазин, в подсобку. Завмаг достает молча бутылку, три стакана, выпиваем и отправляемся в следующий сельсовет. Так объехали все 14 сельсоветов. Мне это не нравилось. Но что я скажу: нет, оставьте, я не такой? Хочешь служить – втягивайся. Положение обязывает. А сегодня, когда аппарат остался, в сущности, нетронутым, разве эта наша отечественная традиция померла? Возвращаясь из загранкомандировки, сколько красивых бутылок везешь нужным людям?
Когда я говорил все это, то соглашаясь с Войновичем, то возражая ему, мне казалось, что позиция моя ясна, определенна, внутренне непротиворечива. Но сейчас, отыскав эту старую газету и перечитав ту нашу беседу «без пиджаков», я отчетливо вижу, как мотало меня тогда из стороны в сторону, как трудно (и в конечном счете так и не удалось) было мне совместить, слить в одну эти две несовместимые мои позиции: да, надо идти во власть, если собираешься служить не ей, а делу, в которое веришь, но при этом нельзя, ни в коем случае нельзя отождествлять себя с властью, которая всегда, какой бы «твоей» она тебе ни казалась, «отвратительна, как руки брадобрея».
Поскольку мы – все трое – были единомышленниками, я резонно предполагал, что никакого спора у нас не получится, не может получиться.
Но спор все-таки возник.
...
Б.С. Мне одинаково отвратительны и готовность интеллигента раствориться во властных структурах, потерять себя, и эдакое чистоплюйство: «Ах, нет, я, интеллигент, не хочу замараться, а потому не пойду во власть». Ничего подобного. Тысячу лет тебя не востребовали. Если сейчас нужны твой интеллект, твои знания – иди. Только ни на секунду не теряй дистанцию… Сто раз подумай, прежде чем что-то получить у власти.
В.В. Знаешь, такой идеальный интеллигент, который сто раз подумает, прежде чем взять ему причитающееся, и дня не продержится во власти. Такие там не нужны. Сарнова же никто туда не зовет.
Б.С. Нет, ребята, так нельзя. Послушать вас, получается: «Нам там не место, сделать мы ничего не можем, не тратьте, куме, силы, опускайтеся на дно». Если ты интеллигент, художник, сиди, мол, дома и ни во что не лезь… Вацлав Гавел ведь пошел в президенты.
В.В. Да, пошел. Но я буду очень удивлен, если, побывав президентом, он когда-нибудь напишет хорошую пьесу. Не верю.
Б.С. Почему?
В.В. Да потому, что писателя в нем государственный пост обязательно убьет. Выбирай: хочешь оставаться писателем или сделаться политиком. Совместить это не удастся.
Б.С. Я уважаю Гавела за то, что он пошел в президенты.
В.В. Я его тоже уважаю. Но у него теперь уже совсем другая психология, другие точки отсчета.
Б.С. Думаешь, интеллигент не может принять крутое, жесткое решение? Скажем, в случае крайней необходимости отдать приказ стрелять по Белому дому?
В.В. Почему? Может.
Б.С. И вообще, хватит видеть в интеллигенте этакого сопливого слизняка: ах, нельзя нарушать демократию, закрывать фашистские газеты, применять силу…
В.В. Знаешь, каждый мерит по себе. Если бы я оказался на месте Ельцина, я бы тоже, наверное, дал приказ стрелять по Белому дому. Но после этого я бы уже не смог писать книги.
Б.С. Почему?
В.В. Не знаю. Я бы нанес себе невосполнимый урон. Не вообще, а как художник. Точно так же человек, отдавший приказ стрелять, никогда уже не сможет стать священником.
Это высказывание моего друга и всегдашнего единомышленника сильно тогда меня разозлило.
И дело тут было не только и даже не столько в том, что все эти его рассуждения, на мой взгляд, были надуманными, даже фальшивыми. Особенно вот эта последняя его реплика – про священников. Кропить святой водой ракетоносцы с ядерными боеголовками и благословлять солдат, посылаемых властью стрелять в тех, в кого им прикажут, не мешает им оставаться священниками. А необходимость самому отдать такой приказ – помешает. Смешно!
Но главное, чем оттолкнули меня и вызвали резкое мое несогласие эти маловразумительные рассуждения Войновича, было то, что, рассуждая таким образом, он – вольно или невольно – подыгрывал тем, кто осуждал «расстрел Белого дома» и тем самым защищал путчистов. Если и не солидаризировался с ними, то, во всяком случае, уступал им.
Я уже готов был ответить ему, что все это ерунда. Что, окажись я на месте Ельцина, не задумываясь, отдал бы такой приказ, и это ничуть не помешало бы мне потом писать мои книги.
Но сказать это я постеснялся.
Ведь Володя говорил, что, случись ему отдать такой приказ, он (как и Гавел) нанес бы себе непоправимый урон как художник. А ты, мог бы сказать он мне в ответ, не художник. Потому-то с тебя и другой спрос.
мог бы я ответить ему на это. Уж он ли не художник! А ни на миг не усомнился в своем праве громко, вслух сказать, что не только не сокрушался, а прямо-таки ликовал, когда Ельцин решился наконец подавить коммуно-фашистский путч военной силой.