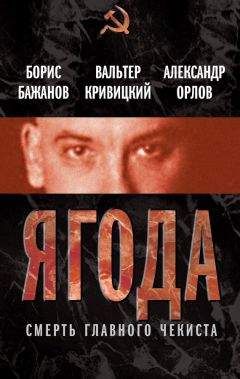«Последние слова» подсудимых являются едва ли не самой драматичной частью всего процесса. В надежде уберечь от сталинского мщения свои семьи и тысячи своих сторонников они достигают здесь крайних пределов самоуничижения. Зная коварство Сталина, они стараются даже перевыполнить обязательства, выжатые из них на следствии, – лишь бы не дать Сталину хоть малейшего повода нарушить его собственное обещание. Они клеймят себя как беспринципных бандитов и фашистов и тут же восхваляют Сталина, которого в душе считают узурпатором и изменником делу революции.
Первым выступил со своим «последним словом» Мрачковский. Вопреки предупреждению не упоминать на суде о своем революционном прошлом, он не смог сдержаться и начал с краткого изложения своей биографии. Ему нечего было стыдиться своего прошлого. Даже его дед был революционером– организатором знаменитого Южно-русского рабочего союза; отец и мать Мрачковского, оба заводские рабочие, отбывали в царское время тюремное заключение за революционную деятельность, а сам он был впервые арестован за распространение революционных листовок в возрасте тринадцати лет.
– А здесь, – с горькой иронией воскликнул Мрачковский, – я стою перед вами как контрреволюционер!
Судьи и прокурор обменялись тревожными взглядами и настороженно уставились на Мрачковского. Вышинский даже привстал, готовясь подать условный сигнал, который вызовет в зале заранее отрепетированный шум и крики и позволит лишить Мрачковского слова. Из глаз подсудимого брызнули слезы отчаяния. Не владея собой, Мрачковский со всего размаху ударил кулаком по барьеру, отгораживающему скамью подсудимых. Физическая боль помогла ему справиться с душевной слабостью и вновь овладеть собой.
Он объяснил, что упомянул о своем прошлом, о своих прежних революционных заслугах не для того, чтобы защитить себя, а чтобы всем стало ясно, что не только царский генерал, князь или дворянин может сделаться контрреволюционером, но и человек пролетарского происхождения, вроде него, если только хоть на йоту отклонится от генеральной линии партии.
Помню, что после этой фразы Мрачковского председательствующий Ульрих послал Вышинскому довольную улыбку, и тот, заметно успокоившись, опустился на стул.
С этого момента Мрачковский уже не отклонялся, от утвержденного текста. Он обвинял во всем Троцкого и оправдывал карательные меры, обрушенные Центральным комитетом партии на оппозицию.
Приближаясь к концу своего «последнего слова», Мрачковский окончательно распластался перед Сталиным: неожиданно для всех, в каком-то мазохистском возбуждении от случившегося с ним несчастья, он истерически выкрикнул: «Мы его вовремя не послушали – и он дал нам хороший урок! Какой он нам дал нагоняй!»
Мрачковский пустил в ход свой последний козырь – единственный, что еще оставался у него. Он показал, что и в эту минуту все еще надеялся заслужить благосклонность Сталина.
Он хорошо знал, что ничем нельзя так угодить Сталину, как немудреным комплиментом: Сталин, дескать, искусно расправляется со своими противниками. Надеясь, что на сей раз он выполнит свое обещание и не расстреляет его, Мрачковский в своем «последнем слове» не просил снисхождения, а, напротив, закончил так: «Я поступал, как изменник делу партии, и как изменник заслуживаю расстрела!»
* * *
Каменев в своем последнем слове повторил, что он признает все выдвинутые против него обвинения. Вместо того чтобы сказать хоть что-нибудь в свою защиту, он пытался доказывать, что не заслуживает снисхождения. Кончив говорить и сев на место, он неожиданно поднялся вновь:
– Я хотел бы сказать несколько слов своим детям… У меня нет другой возможности обратиться к ним. У меня двое детей: один– военный летчик, другой– пионер. Стоя, быть может, одной ногой в могиле, я хочу им сказать: каким бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным.
Он снова сел, прикрыв глаза рукой. Все присутствующие были потрясены, и даже лица судей на миг утратили привычное выражение каменного безразличия.
Настала очередь говорить Зиновьеву. Трудно было узнать в нем прежнего блестящего оратора, так завораживавшего, бывало, слушателей на партийных съездах и конгрессах Коминтерна. Тяжело дыша, он начал говорить неуверенно и без всякого выражения. На аудиторию он не смотрел и не искал контакта с нею, как привык за долгие годы. Но прошло несколько минут– и, казалось, он обрел самообладание, его речь полилась плавно. Стоя у барьера и читая слова, написанные для него сталинскими инквизиторами, он напоминал первоклассного актера, имитирующего ораторскую манеру прежнего Зиновьева, чтобы лучше вжиться в роль старого заслуженного большевика – в роль, согласно которой все зиновьевское революционное прошлое было мифом, потому что в действительности Зиновьев всегда являлся врагом социализма и предателем.
Последнее его слово было составлено по тому же шаблону, что и у Каменева. Он тоже защищал не себя, а партию и Сталина. Закончил он маловразумительной фразой, явственно отдающей неуклюжим теоретизированием в сталинской манере: «Мой извращенный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм – это разновидность фашизма, а зиновьевизм – это разновидность троцкизма…»
Рейнгольд, Пикель и три тайных агента НКВД – Ольберг, Фриц Давид и Берман-Юрин – также произнесли каждый свое «последнее слово». Все они, за исключением Ольберга, заверили суд, что считают для себя невозможным просить о снисхождении. Как и подобает фиктивным обвиняемым, они были уверены, что их жизням ничто не угрожает.
23 августа, в 7 часов 30 минут вечера, судьи удалились в совещательную комнату. Вскоре к ним присоединился Ягода. Текст приговора был заготовлен заранее; на его переписку требовалось часа два, не более. Однако судьи оставались в совещательной комнате целых семь часов. В 2 часа 30 минут ночи, то есть, значит, уже 24 августа, они вновь заняли места за судейским столом. В мертвой тишине председательствующий Ульрих начал чтение приговора. Когда через четверть часа монотонного чтения он дошел до его заключительной части, определявшей меру наказания подсудимым, во всех концах зала послышалось нервное покашливание. Выждав, пока восстановится тишина, председательствующий перечислил одного за другим всех обвиняемых и после долгой паузы закончил объявлением, что все они приговариваются к высшей мере наказания – смертной казни «через расстрел».
Сотрудники НКВД, которым был хорошо известен порядок проведения политических процессов, ожидали, что вслед за тем председательствующий произнесет обычную в таких случаях формулу; «Однако, принимая во внимание прежние революционные заслуги подсудимых, суд считает возможным не применять к ним смертную казнь, а заменить ее…»