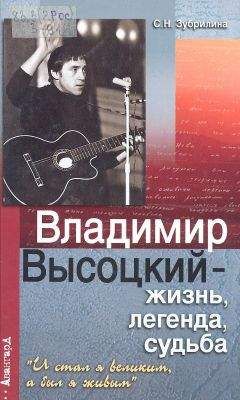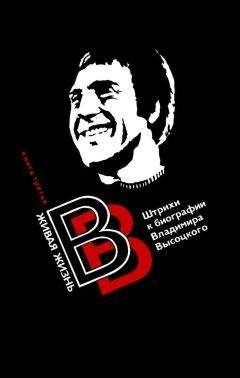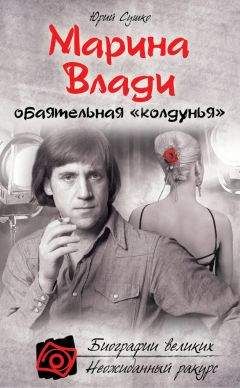Володя просто спросил: «Хотите послушать?» Я, конечно, сказал: «Хочу». И мы внимательно прослушали обе пластинки, все четыре стороны — не отрываясь, только переворачивали пластинки, смеялись по ходу дела… За этим занятием у нас прошла большая часть вечера.
Володя рассказал, как трудно ему пришлось, когда он писал эти песни. В частности, он говорил о песне под названием «Крохей», которая мне очень понравилась: «В книге ведь речь идет об элегантной английской игре крокет, но кто же у нас знает эту игру, когда у нас она, наверное, исчезла сразу же после революции… Что же я буду писать про эту игру? Зато у нас есть хоккей, и я сделал из хоккея и крокета — «крохей»… Ну не могу я написать песню про крокет. Не могу! У нас никто это не поймет! И я изобрел «крохей»…
А когда пришло время расходиться, Володя сказал:
— Я хочу, чтобы у вас была эта пластинка.
И сделал нам надпись на конверте: «Инге и Виктору, взрослым друзьям моим из детства, с которыми так замечательно мы побыли в стране чудес. 2 января 1977 года».
Было еще несколько встреч… В 1977 году мы переехали на Кутузовский проспект, и, по-моему, Володя с Мариной приходили к нам и туда. У нас как-то было достаточно тем для разговора.
Что-то Володя рассказывал мне про свои заграничные поездки (к тому времени он уже и в Америке побывал), про свои впечатления от Голливуда — я не помню подробностей. Какие-то вопросы он мне задавал… Оно и правильно, он не мог еще, наверное, разобраться во всех деталях западной жизни, хотел проверить свои впечатления о стране, о людях, о каких-то порядках, обычаях, о каких-то делах чисто, может быть, житейских. Для меня ответы на многие из его вопросов были предельно ясными.
Хотел бы отметить, что в силу той же своей природной деликатности, которая не позволяла ему задавать мне вопросы по сути моей работы, Володя никогда не обращался ко мне с какими-то просьбами.
И.О.: Ты ему помогал в чем-то с визой. У вас, я помню, были разговоры — он просил тебя помочь получить постоянную визу для поездок к Марине…
B.C.: Он иногда мог спрашивать у меня совета о том, как лучше решить какой-то определенный вопрос — каким образом, через кого. То ли ему, например, самому написать письмо в МВД, то ли будет более правильным направить туда запрос от лица Марины как приглашающей стороны… В общем, он советовался со мной, как ему лучше сделать что-то конкретное, что могло бы разрешить или ускорить дело, но — повторяю еще раз — это были не просьбы: он просто делился со мной своими проблемами, просительного тона в наших разговорах у него не было никогда. Так получилось, что все встречи, которые у нас были с Володей и Мариной в Москве, проходили как бы под знаком семейных отношений. Может быть, мы с Ингой были немножко другие, чем его обычное окружение. И то «новоселье» на Малой Грузинской был единственный большой сбор, где мы оказались… Я хочу повторить, что в наших отношениях было какое-то взаимное влечение, тяга друг к другу. При этом у Володи, видимо, никогда не возникало желания прийти к нам, когда он «развязывал», — у него «для этого» была другая компания…
И.О.: Мне как-то кто-то сказал, что Марина и Володя разбились… Я им позвонила, к телефону подошел Володя. Оказалось, что это Марина «разбилась» на съемках — что-то там под ней сломалось, она упала и сильно ушиблась. Я ему тогда сказала: «Ну, слава Богу, теперь вы будете долго жить»…
<…>
…Известие о его смерти было для меня шоком. Виктор не смог пойти на похороны — у него в то утро были какие-то неотложные дела с иностранной делегацией, и я поехала одна. Как-то я прошла в театр через все милицейские ограждения — сказала, что пришла по приглашению Марины. Тут же ко мне подскочил Кобзон:
— Инга, тебя ждет Марина! А где Виктор?
— На работе, он сейчас не может приехать.
Я прошла в кабинет к Юрию Петровичу, там сидела Марина. Мы обнялись. Она заплакала… А потом сказала:
— У меня к тебе есть дело. Нужно, чтобы наша квартира осталась маме Володи. Нужно мое письмо передать Брежневу. Сможет Виктор мне как-то помочь?
— Знаешь, я за Виктора не могу дать ответ, я должна ему позвонить.
Позвонила Виктору, он сказал:
— Поезжай домой и жди моего звонка, а я постараюсь дозвониться до Александрова.
И я поэтому не поехала на кладбище — я на машине тут же вернулась домой и сидела, ждала звонка. Где-то часам к пяти-шести Виктор дозвонился Александрову, и тот сказал: «Присылайте мне письмо».
B.C.: В общем, был звонок от Инги, она мне изложила просьбу Марины, и я ей сказал, что буду выяснять. Вы прекрасно знаете, какая была обстановка вокруг похорон: замалчивание его смерти в газетах, вся эта милиция вокруг и так далее… Я не мог сразу сказать Марине, что письмо я, конечно, возьму, потому что не был на сто процентов уверен, что мне его удастся передать по назначению — я не знал, какова будет реакция «с той стороны». А взять письмо и не передать — это для меня был абсолютно неприемлемый вариант. Я позвонил помощнику Брежнева Андрею Михайловичу Александрову, с которым был хорошо знаком. Напомнил ему, что Марина, во-первых, является вице-президентом общества дружбы «Франция — СССР», а во-вторых, что, когда Брежнев незадолго до этого был с официальным визитом во Франции и принимал в советском посольстве руководство этого общества, то особенно тепло он беседовал с Мариной, и именно поэтому она считает возможным направить ему такое (чисто личное) письмо.
Александров мне сказал:
— Письмо возьмите и завтра же перешлите мне.
(Я вспоминаю, что кто-то из уже писавших на эту тему упоминает, что мне потребовалось целых 24 часа, чтобы получить разрешение взять у Марины это письмо. Это не так — мне потребовалось всего десять минут, чтобы договориться с Александровым.)
После работы я поехал на такси на Малую Грузинскую.
Широкие поминки уже кончились, — я приехал где-то около семи. Мне сказали, что Марина сидит в кабинете и хотела бы со мной поговорить. Короче говоря, я сразу пошел в кабинет. Помню, что мне туда даже какую-то закуску принесли… ну, водка там стояла. Марина показала мне свое письмо к Брежневу, которое кто-то (не помню сейчас, кто именно) помог ей написать, и попросила меня помочь как-то поправить это письмо, сделать его лучше, одним словом.
Я прочитал. Письмо действительно было составлено неумело — и стилистически, и по сути дела. Я стал делать замечания, подсказывать, что именно надо в нем изменить, чтобы письмо звучало как чисто личное (именно от Марины, а не от «группы товарищей»), чтобы оно было эмоциональным, но без лишних каких-то «рас-плывчатостей». Нужно было конкретно поставить вопрос, чтобы эта квартира сохранилась как (возможно, в будущем) квартира-музей или «памятная» квартира Высоцкого. Замечаний у меня было много, и в какой-то момент Марина спросила: