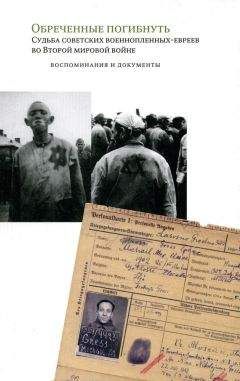Мой авторитет в лагере быстро возрастал. Настроение среди пленных поднималось, усиливались надежды на близкий конец войны и наше освобождение. Особенно поверили в меня ребята после 7 ноября, когда мне удалось предотвратить массовый расстрел пленных в нашем лагере. Тогда, после убийства нашего товарища комендантом, вторым на прицеле был я. Невзирая на это, я успокаивал и коменданта с охраной и строй пленных. Ведь выхода не было, пришлось подчиниться.
Мое положение переводчика не давало мне никаких поблажек или льгот со стороны немцев. Как и всех, меня водили ежедневно на работу на фабрику, где я был таким же грузчиком ящиков, как и все; мне не давали добавочного питания. Единственное, что я получил, — это «ботинки» на деревянной подкованной подошве с верхом из искусственной кожи вместо цельных деревянных колодок, которые у меня были до сих пор. Новые ботинки были полегче, на них меньше налипал снег. Такая обувь была у всех станционных грузчиков.
Дополнительное питание я получил не от немцев, а от бригады станционных грузчиков. Они ворованное делили между собой поровну и равную долю стали выделять мне: я садился с ними за стол, когда они по вечерам варили свой сытный ужин, как правило — картошку с мясной тушенкой, иногда кашу. Несколько месяцев удавалось обменивать краденый сахарный песок на хлебные карточки на фабрике — у одного немца-спекулянта. Он разузнал каким-то образом, что наши станционные грузчики «добывают» сахар, и предложил через меня производить обмен. И вот я носил в противогазной сумке, которую мне дал Алексей Васин, мешочки с сахарным песком на фабрику, а оттуда — талончики от хлебных карточек. До марта 1945 г. в немецких булочных принимали талончики в отрыве от карточек. На эти талончики станционные грузчики выкупали хлеб в булочной при станции. Деньги добывались на тот же сахарный песок у немца-спекулянта. Операция эта была рискованной. Если бы мы попались, то пленным грозил штрафной лагерь или даже гестапо, а немцу — тюрьма, если не смертная казнь. Обмен продолжался до марта 1945 г., когда прекратилась работа на фабрике, и тогда же перестали принимать оторванные от карточек талончики. Таким образом, в течение нескольких месяцев я кормился у станционных грузчиков, а лагерный паек отдавал Коле Манацкову; иногда мне удавалось что-то добавить ему и со «станционного» стола. В эти месяцы я не голодал и заметно окреп.
В числе лагерников было и несколько офицеров званием до подполковника, в большинстве призванных из запаса интеллигентов. К сожалению, это были опустившиеся более других люди. Физических сил у них было мало; тяжелые испытания, непосильный физический труд, постоянный голод они переносили хуже других, меньше следили за собой и производили впечатление особо несчастных. Да и я только в Зебницком лагере вырвался из этого круга интеллигентов-доходяг. Никто из офицеров не мог претендовать и не претендовал на роль лагерного лидера. Благодаря влиянию бригады станционных грузчиков не проявились претенденты на лидерство из бывших уголовников.
Постепенно я стал выполнять внутри лагеря функции третейского судьи. В большом коллективе не обходится без внутренних конфликтов. То что-то не поделили, хотя, казалось бы, и делить нечего, то кто-то обозвал кого-нибудь оскорбительно. Особенно чувствительны были к таким оскорблениям представители национальных меньшинств, которых в лагере было процентов тридцать: дагестанцы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, узбеки, киргизы, туркмены, чуваши, мордва, удмурты, татары и т. д. Многие плохо говорили по-русски, только матерились вполне «грамотно». Нацменов иногда обзывали оскорбительной кличкой, кажется — «чучмек» (забыл уже) или «елдаш», что на тюркских языках означает «товарищ», но при соответствующей интонации и ухмылке может восприниматься как оскорбление.
И вот конфликтующие стали обращаться ко мне с просьбой рассудить их. Они были уверены, что я это сделаю объективно и беспристрастно. Не было случая, чтобы кто-либо оспорил мой «приговор». А я ведь был одним из самых молодых в лагере, мне стукнуло всего двадцать два. Были среди нас люди с высшим образованием и даже с учеными степенями, с большим жизненным опытом, но так вот сложилось. Этим доверием товарищей по плену я очень дорожил. Предполагаю, что такое доверие товарищей отчасти объяснялось тем, что я не скрывал своих советских и коммунистических убеждений, хотя это было все еще небезопасно.
Конечно, я сам не был безгрешным ангелом и мог — как ни следил за собой — допустить в каком-нибудь споре (а они бывали) резкое или обидное слово. Но в ответ на неизбежный укоризненный взгляд я немедленно извинялся. Мне кажется, что такое поведение еще больше укрепляло доверие ко мне, чем если бы я был «сверхбезупречным». Помню, я крупно поговорил с пожилым, лет 50, осетином, который повздорил с грузином — соседом по нарам. Разговор пошел на повышенных тонах, и я сгоряча вдруг обозвал осетина обидной кличкой. И фронт переменился. Осетин, годившийся мне в отцы, стал стыдить меня, говоря, что от меня он такого не ожидал, что мне негоже вести себя как другим, не понимающим, как это обидно слышать советскому человеку, и т. д. Я опомнился и долго просил у него прощения, дал обещание, что в последний раз я допустил такой оскорбительный выпад. Я свое обещание сдержал. Случай этот послужил мне полезным уроком!
Зимою 1944/45 г. и нам и немцам стало ясно, что военный крах Германии близок. Начались сражения на коренной территории Германии. В городе и на фабрике появились беженцы с Востока и с Запада. Фашистские власти зверствовали. Участились сообщения в немецких газетах о применении смертной казни за дезертирство. И хотя многие гражданские немцы и охрана лагеря все еще на словах надеялись на «секретное оружие» Гитлера, которое якобы должно было вскоре изменить ход войны, но чувствовалось их подавленное настроение. Газеты и стены домов запестрели лозунгами: «Sieg oder Sibir» — «Победа или Сибирь», «Берлин никогда не станет русским, Вена снова будет немецкой» (после взятия Вены Красной Армией) и т. п.
Фашистские власти проводили тотальную мобилизацию. В ополчение призывали всех мужчин от 16, даже от 14 лет до 70. Их вооружали противотанковой ручной ракетой — «Фаустпатроном», отчего, как мы узнали после освобождения, в Красной Армии их прозвали фаустниками. Пошерстили и охрану нашего лагеря. Всех, у кого руки и ноги были целы, отправили на фронт. Один охранник — местный зебницкий, лет 50, отец семи детей, помню его фамилию — Хольфельд — вдруг сказал мне (по-немецки, естественно): «Отправляют меня под Вену. Сразу же сдамся в плен русским». Охрана лагеря теперь сплошь состояла из инвалидов.