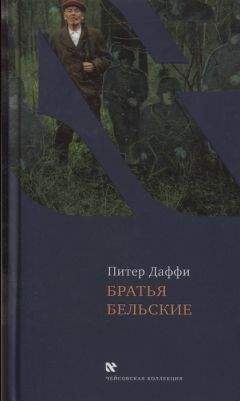В лагере была даже собственная тюрьма, выстроенная рядом с кузницей. Это была темная, непроветриваемая землянка с вооруженной охраной. Адвокат Соломон Волковысский отвечал за расследование преступлений и назначение тюремных сроков. Даже такой незначительный проступок, как дойка коров без разрешения, мог привести к заключению на несколько дней.
В центре лесной деревни располагался штаб. Тувья, Асаэль, Лазарь Мальбин, Песах Фридберг, Соломон Волковысский и Танхум Гордон, недавно сбежавший из Щучинского гетто (его генерал Платон назначил заместителем комиссара), собирались там для проведения совещаний. Рая Каплинская вела протоколы совещаний, составляла проекты писем партизанским лидерам и печатала отчеты о боевых операциях на пишущей машинке, найденной в одной из деревень.
— Там было две комнаты, — так описывала Каплинская штаб. — В большей стоял стол, на нем — моя пишущая машинка. На стене висел портрет Сталина, нарисованный одной девочкой в лагере. Русские партизаны находили этот портрет замечательным.
Все протоколы делались в трех экземплярах — одна копия предназначалась в архивы лагеря, другая — в штаб генерала Платона, а третью, на всякий случай, закапывали в землю. Каплинскую в шутку называли раввином, потому что она могла зарегистрировать пару как состоящую в браке. Все документы подписывались Тувьей и Мальбиным, и на них ставилась печать партизанского отряда.
Непосредственно перед штабом была разбита городская площадь, где при необходимости собиралось все население лагеря. Именно там встречались бойцы, прежде чем отправиться на задания. Там также принимали делегации советских партизан и отмечали коммунистические и другие праздники.
«Тувья сказал, что было бы хорошо, когда в следующий раз придут русские, мы смогли бы организовать какую-нибудь развлекательную программу», — вспоминала Сулья Рубин, которая до начала советской оккупации в 1939 году семь лет отучилась в балетной школе. Под ее руководством была создана театральная труппа. Она разработала программу эстрадного представления, которая включала народные танцы, популярные песни и сценки. Зрители сидели прямо на земле.
— Я ставила Шекспира, кому какое дело? Мы брались за все, — рассказывала Рубин. — Мы пели партизанские и русские народные песни. Играли на аккордеоне, иногда на ложках и на свистульках. Мы сами мастерили флейты. Иногда представление дополняли наши гости, потому что среди русских было очень много по-настоящему талантливых людей. У них были прекрасные сильные голоса, и они знали много песен. Они нуждались в положительных эмоциях, и мы тоже.
Рубин переводила песни с идиша на русский и разучивала их вместе со своими русскими зрителями-партизанами, которые понятия не имели о том, что поют еврейские песни.
— Это выглядело дико, — вспоминала Энн Монка, одна из исполнительниц. — Старшие школьники организовали хор. Я помню, мы часто пели одну русскую песню. В ней рассказывается о женщине, которая радуется, что попала в партизанский отряд. А русским мы непременно должны были петь о Сталине. Но у нас самих были другие песни. Например, есть такая песня на идише, называется «Еврейское дитя». В ней рассказывается о матери, которая хочет спасти своего ребенка от погрома. Она решает отвести дитя в христианскую семью и спрятать среди христианских детей. Потом она говорит ребенку, что прячет его потому, что его жизни угрожает опасность, из-за того, что он еврей, и что он должен вести себя самым лучшим образом и ни в коем случае не выдавать себя. Естественно, ребенок начинает плакать, но у матери нет выбора, и она оставляет его и уходит. Это очень грустная песня.
Беспокойное поселение в сердце Налибокской пущи было излюбленной темой для разговоров среди крестьян. Некоторые неевреи называли его «Иерусалимом» — под этим подразумевалось, что жители лагеря не хотят воевать. Но евреям оно внушало не только гордость, но и спокойствие.
«Это было похоже на фантастическое видение из другого мира, — вспоминала Лиза Эттингер о своем прибытии в лагерь. — Те же люди, та же плоть и кровь, но более сильные и более свободные. В воздухе царило какое-то особое веселье, все смешалось — откровенные шуточки и неприличные ругательства, скачущие лошади и смех детей. Внезапно я увидела себя будто в массовке из американского вестерна о Диком Западе. Я не знала, смеяться ли мне вместе со всеми или плакать в одиночестве».
Землянки стояли по обе стороны главной дороги, которая пролегала через весь лагерь. Постепенно она стала напоминать городскую улицу. По ней маршировали бойцы, вернувшиеся с заданий, и гуляли молодые женщины, которым подфартило заполучить новую пару обуви.
Все землянки были пронумерованы и разделены по социальному признаку, как и жизнь лагеря в целом. Выходцы из одной деревни или занимавшиеся одним и тем же ремеслом мастеровые иногда селились вместе. Интеллигенция — Соломон Волковысский, доктор Гирш и прочие — жила особняком в землянке № 11. Жилые помещения командующего состава выглядели лучше прочих. И Тувья, и Асаэль имели собственные землянки, в которых они жили со своими женами, Лилкой и Хаей. В землянке Тувьи хватало места, чтобы устраивать застолья с русскими гостями, во время которых его жена подавала на стол еду и выпивку.
Вражеские самолеты низко кружили над лагерем, но постройки были надежно спрятаны в густых лесных зарослях, и немцы так и не смогли их обнаружить. Лес был настолько густой, что лучи солнца до земли практически не доходили.
Шмуэль Амарант, специалист по еврейской истории и сионизму, получивший в двадцать три года степень доктора, был назначен летописцем лагеря. Ему поручили собирать и записывать сведения о лесной жизни и гетто. Каждый день он в своей землянке расспрашивал членов отряда и в конечном счете собрал шестьдесят пять тетрадей материала.
Среди других обитателей лагеря выделялись несколько мальчишек-подростков. Хотя у них было множество обязанностей, включая работу в качестве подмастерьев у ремесленников, они находили время на то, чтобы околачиваться возле бойцов. Они быстро усвоили грубый партизанский жаргон, который, к ужасу многих, стал неотъемлемой частью лагерной жизни. Один из них — Янкель был психически больным. Говорили, он сошел с ума после того, как его жестоко избили немцы. Он разгуливал по лагерю в изорванной одежде, с диким выражением в глазах. «Янкеле, почему ты не зашьешь себе рукав?» — спрашивал его кто-нибудь. «Потому что я хочу вытряхнуть тебя оттуда, — отвечал он. — А как я это сделаю, если зашью его?»
Были в лагере и те, чей возраст уже перевалил за восемьдесят. Они старались вносить свой посильный вклад в общее дело, но все-таки они жили за счет труда других. Так же как и маленькие дети, от двух до четырех лет, за которыми ухаживали их матери. «Я была с ребенком, — вспоминала Фей Друк, бежавшая из лидского гетто. — Мы долго блуждали по лесу, искали ягоды, которые можно есть. Там было много грибов, и мы ели грибы».