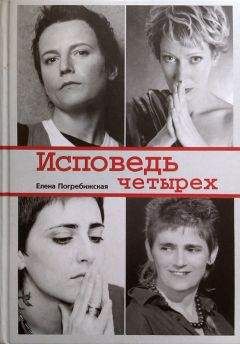Умка: Наверно, это было нужно, потому что если бы я в какой-то момент жизни на этот компромисс не пошла бы, я бы себя, наверно, загнала бы до смерти. Я просто сдохла бы. Потому что вот это ощущение полной неуязвимости и бессмертия — это, конечно, прекрасное ощущение. Но довольно обманчивое.
Я: С которым ты ездила стопом и жила?
Умка: Да. Это 85–87 год. Мне было тогда 24 года. Самый приход был незадолго до моего дня рождения. Когда я попала в вытрезвитель. И получила страшной пизды от ментов, я там прямо с ними дралась.
Я: Тебя сильно избили?
Умка: Ужасно. Ну, и я им тоже… несколько телесных повреждений… нанесла.
Я: А чем все закончилось?
Умка: Закончилось тем, что меня отпустили, взяли штраф 25 рублей. И я спокойно пошла. Но это был единственный, слава богу, в моей жизни случай, когда я попала в вытрезвитель. Как раз тогда была кампания борьбы за трезвость. Горбачев и прочее. Меня возмутило как раз то, что это была несправедливость. Я спокойно шла по улице, не шаталась, не хулиганила. Да, мы с парнем выпили бутылку коньяка. Ну и что?
Я: Ты дралась прямо на улице?
Умка: Сначала в ментуре, потом в вытрезвителе. Они с меня сдирали одежду. Вырвали все пуговицы, они валялись там по всей комнате. После этого у меня возникло ощущение совершенной и полной победы, безнаказанности и правильности и полной фокусировки. И в этом бойцовском состоянии я провела года три.
Я: А почему ты так много материшься?
Умка: Потому что ты меня раскручиваешь на это. Я вообще в жизни много употребляю мата. Но я могу очень гладенько фильтровать, а могу и не фильтровать. Вот я сейчас с тобой говорю как с человеком, не как с журналистом, а как с человеком, которому я хочу что-то в жизни объяснить. Не для книги. Не для имиджа. Не для того, чтобы появиться в этой книге — и все сказали: вот какая Умка заебательская. Не для пиара, а для того, чтобы тебе объяснить, как человеку, который для меня симпатичен, какие-то важные для себя вещи. Потому что ты меня спрашиваешь. Я могу опять перестать материться, опустить шторку, и тебе придется опять выковыривать то, что есть я. Вот сейчас я есть я.
Говорит, что легко может обойтись без инвективной лексики, потом вынуждена объяснять мне, что такое инвективная лексика.
А я сижу напротив и вспоминаю кусок другой интересной лекции. Там говорили, что у каждого из нас есть такая воображаемая книга с фотографиями. «Тээкс, — говорим мы, когда встречаем нового человека, — он похож на моего коллегу по работе Мишу А. А Миша А. — редкостный мудак и пользуется пахучим сладким одеколоном. Один типаж. Значит, и этот такой же». Захлопываем книгу, и нам уже про нового все ясно. Там же написано: не доверяй блондинам, тем кто старше (младше), кавказцам, хиппи, начальникам и все в таком духе. Или встречаем человека с открытым взглядом и широкой улыбкой. А в этой томине напротив таких лиц стоит: доверяй им безоговорочно и, если будут просить денег — дай. Улыбчивый тут же просит денег, и мы даем. А он, подлец, с ними исчезает. То есть, я хочу сказать, что имеет место быть стереотипное восприятие. Прилепить хочется ярлычок на человека и не задумываться больше. А в реальности все не так вообще. И сколько ни верти несчастный «Зоркий», все равно не сойдется в стереотипный образ кандидат филологии и заглотанный пузырь амитриптилина, инвективная лексика, йога по утрам и драка с милицией, тысячный зал на умкином концерте и вписки на чужие квартиры. Это я про свое восприятие говорю, хотя мне уже понятно, что от Ани Герасимовой можно ожидать чего угодно, чего в моей воображаемой книге не написано.
И если домохозяйка N или офис-менеджер N, дочитав до этого места, выбросит вот эту книжку, потому что не сможет примерить описанную жизнь на себя, как сериал «Не родись красивой», я, как умудренный опытом человек, скажу: «Она просто была не из целевой аудитории». Хотя, если честно, мне будет жалко: немного рок-н-ролла в жизнь офис-менеджеров внести нужно, я считаю. Поэтому, N, не смейте!
Насколько я помню из наших первичных туманных разговоров, в Аниной истории присутствовали плохие парни, парень. Кажется, его звали Бармалей.
Умка: Не Бармалей, Чапай.
Я: А зачем тебе нужны были отношения с таким экстремальным человеком?
Умка: Ну, я сама была довольно экстремальная. Я и сейчас экстремальная. Но с тех пор как я стала выходить на сцену, я стала очень спокойная девушка. То есть весь экстрим выплескивается, и все. Я становлюсь милой, спокойной.
Я: А с господином Чапаем вы сколько времени были вместе?
Умка: Год.
Я: Это период трэша?
Умка: Я не очень люблю этот современный сленг — типа «позитив-негатив», «трэш». Я не очень понимаю, что он означает. Давай перейдем на русский язык и поймем, что ты в это вкладываешь. Грязь? Трам-тарарам?
Я: Нет, это нечто запредельное.
Умка: Ага. Беспредел. Да, это был период беспредела.
Я: Ну, беспредел — достаточно уголовное слово.
Умка: А Чапай был довольно уголовным типом. Он по малолетке сидел и был переполнен этими впечатлениями.
Я: А что ты в нем нашла?
Умка: Ну, во-первых, он был довольно симпатичным, а во-вторых, он был таким — безоглядным. Я очень уважаю, когда в людях есть безоглядность: способность совершать непредсказуемые поступки.
Я: Какие?
Умка: Да любые. Вот ты идешь мимо витрины, и ты ненавидишь эту витрину, и ты бутылку бросаешь в эту витрину.
Я: И ты уважаешь это качество?
Умка: Да. Но я вообще не люблю ломать предметы, я крайне не люблю уничтожение предметов. И не люблю, когда люди друг друга увечат и калечат и готовы дать в морду.
* * *
Я говорю, что это безответственное поведение — не думать, как аукнется безоглядность.
Умка: Но Чапай, конечно, был безответственный. Вот надо быть безоглядным и при этом ответственным.
Аня с Чапаем познакомилась, между прочим, на Арбате.
Я: А он хипповал тоже?
Умка: Да, он тоже хипповал. Это было такое ответвление, называлось — дринч-команда. Они аскали деньги у прохожих и на них бухали. Нечто среднее между побирушничеством и гоп-стопом.
Дринч-команда подводила под это все базу, мол, приехали из Таллина, рок-группа мы, под названием… ммм… «Пропеллер». Дайте, мол, денег на билет. Юноши были длинноволосые, обаятельные, и если им прохожие и не верили, то денег давали все равно.