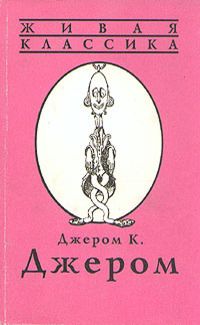скатерти и течет по сцене вниз к рампе, а Эллен Терри восседает на столе, поглядывая поверх очков и заливаясь смехом, как школьница.
Видел я ее на сцене и в другой раз. Было объявлено, что она будет читать на благотворительном утреннике в «Палладиуме», и я пошел на балкон. Когда Эллен Терри появилась на сцене, ее, казалось, ослепил свет: она отвела руку назад и ощупала занавес, словно желая убедиться, не слишком ли далеко она вышла вперед. Она назвала заглавие стихотворения, которое знал наизусть каждый сидевший в зале ребенок, — «Погребение сэра Джона Мура», но с первых же слов стала растерянно озираться вокруг, ища глазами суфлера. Запинаясь и путаясь, она произнесла еще две строчки и замолчала. Мучительно было видеть, как она борется с провалами памяти! Каждый явственно ощущал, что она забыла не только что делает, но даже где находится. Внезапно она протянула руки к публике, улыбнулась и призналась: «О господи, не могу вспомнить!» Затем снова откинула голову назад и начала: «Но милосердие еще не истощилось…» Лицо ее просветлело, голос стал сильным и звучным, как в былые времена, и она с триумфом дочитала стихотворение до конца.
У меня в памяти сохранилось еще одно воспоминание о ней и, пожалуй, самое живое из всех. Раньше мне никогда не доводилось оставаться с Эллен Терри наедине. Я всегда встречался с ней в гостях, в переполненных комнатах, театральных ложах или на публике. На этот раз — увы, он был последним — рядом с Эллен не было ни души, никто не отвлекал ее и не мешал мне любоваться ею. Случилось это летом. Я проезжал на машине через Смолхит в Кенте, где у Эллен был прелестный елизаветинский коттедж с садом, выходившим на болото. Стояла жара. Я не знал, могу ли навестить Эллен Терри без приглашения; в конце концов, я остановил машину, набрался смелости и постучал в дверь. Мне ответили, что Эллен одевается и через несколько минут спустится вниз.
Я вошел в сельскую кухню, переделанную в общую комнату. На стене висела афиша, изображавшая Ирвинга в роли Бекета. Дом был обставлен очень просто. Я сам люблю простые, ничем не заставленные комнаты, но крайне удивился, обнаружив, что Эллен Терри тоже это любит. Фред и Мэрион, напротив, были очень неравнодушны к вещам и к концу жизни так загромоздили свои гостиные, что там было просто не пройти. Здесь же я увидел кирпичный пол, устланный грубыми циновками и ковриками, несколько простых стульев, стол у окна — и только. Всюду безукоризненная чистота и простор, а на столе — большие букеты упоительно душистых садовых цветов. В комнату наверху вела крутая лесенка, и я слышал, как там кто-то двигался и резким, хрипловатым, но спокойным и отчетливым голосом спрашивал служанку: «Кто это? Где моя сумка?»
Вошла компаньонка Эллен и торопливо шепнула мне: «Пожалуйста, не оставайтесь завтракать. Она, конечно, пригласит вас, но вы не оставайтесь, потому что еды не хватит». Затем по лестнице медленно спустилась Эллен Терри. Она была в сером, напоминающем одеяние паломника платье с длинными рукавами и белой отделкой у ворота. В руках у нее была большая потертая кожаная сумка с висячим замочком, которую я помнил с детства; в волосах Эллен по-прежнему красовались коралловые гребни.
Она спросила, кто я такой, а когда я назвал себя, с видимым усилием припомнила меня и осведомилась, играю ли я сейчас на сцене и как чувствуют себя мои родители. На мне была ярко-голубая рубашка, и Эллен сказала, что расцветка эта очень веселая и что яркие цвета всегда оказывали на нее бодрящее действие. Она приглашала меня остаться позавтракать, но я сослался на то, что меня ждут в другом месте. Внезапно она стала рассеянной, и я понял, что не следует дольше утомлять ее. Когда я повернулся, чтобы уйти, она воскликнула. «Ах, это так замечательно! Меня обещали покатать завтра вечером. Я поеду смотреть лебедей в Бодием Касл. Они такие красивые при лунном свете!» Я поцеловал Эллен, и она проводила меня до калитки. Когда я садился в машину, она все еще стояла там, прикрывая глаза рукой от солнца. Затем она улыбнулась, подняла другую руку и помахала мне на прощанье. Тронувшись с места, я обернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на Эллен, прежде чем автомобиль завернет за угол, но она уже исчезла.
1928–1929
В своей профессии я продвигался в общем неплохо. Жалованье мое со времен «Верной нимфы» удвоилось, и многие директора театров уже знали о моем существовании. Я сыграл несколько спектаклей в «Артс тиэтр» — там возобновили «Чайку». Состав труппы и постановка были почти те же, что в 1925 году в «Литтл тиэтр», и Мириэм Льюис очень рассердилась на меня, когда на генеральной репетиции во время перерыва я объявил за чашкой кофе: «Как досадно все-таки, что после стольких лет мы не сделали в этой пьесе ничего нового! Во второй раз нам следовало бы глубже раскрыть ее». Когда же я сказал режиссеру: «Эту сцену я всегда играл неверно. Разрешите мне попробовать сыграть ее иначе», — он лишь пожал плечами и ответил: «Как жаль, что вам постоянно хочется улучшать то, что и так хорошо сделано». Это должно было, по-видимому, считаться комплиментом, но, тем не менее, взбесило меня.
Я играл в спектаклях еще нескольких клубов и частных театральных обществ, переживавших в то время пору расцвета. Под эгидой «Сценического общества» я играл в пьесе О’Нила «Великий бог Браун». В руках мы держали маски, которыми в отдельных сценах и диалогах прикрывали лица, что казалось мне довольно претенциозным и неоправданным приемом. Выступил я также в пьесе под названием «Дуомон» с Мартитой Хант и Эсме Перси. Я изображал нечто вроде хора, одет был в вечерний костюм и плащ и, насколько мне помнится, перед началом каждой сцены читал перед занавесом отрывки из Гомера (в английском стихотворном переводе).
В «Артс тиэтр» я играл также в пьесе Мерседес Д’Акоста «Предрассудки». Это была довольно сильная мелодрама о травле польского еврея, живущего в маленьком городке на Среднем Западе Соединенных Штатов. У меня была весьма эффектная, драматическая роль, а Гвен Фрэнгсон-Дэвис очень убедительно сыграла девушку, умело передав национальный акцент. Для меня было большой