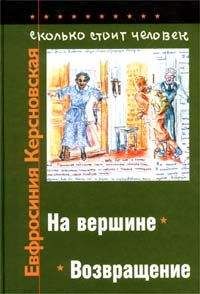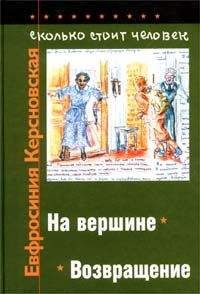Меня тронуло это горе, и, желая приласкать, утешить эту девушку, я наклонилась, обхватила ее за плечи и попыталась поднять.
И вдруг я услышала шепот, тихий, но ясный:
— Не верь мне, я наседка!
Я отпрянула с удивлением, прислушалась. Может, мне померещилось? Слуховая галлюцинация? Или потустороннее предупреждение?
А девушка продолжала рыдать:
— Но не будет же это длиться вечно? Самый живучий тиран когда-нибудь умрет! Ведь это нам, всей стране, принесет освобождение. Должно принести освобождение, не так ли?
И она, будто ожидая моего ответа, умолкла.
У меня в голове был сумбур. Я была уверена, что слышала эти слова: «Не верь… наседка…» Но кто их произнес?! Между нами возник какой-то невидимый барьер. Я с трудом заставила ее встать, усадила рядом с собой, взяла за плечо и, глядя прямо в глаза, сказала — спокойно и строго:
— Кто не страдал, тот ничего не понимает. А тот, кто страдал, тот умеет прощать. Только измены и предательства нельзя простить. Предатель не заслуживает счастья и недостоин его. А ты успокойся. Сядь. Расскажи свое горе и сама увидишь: если совесть у тебя чиста, то все устроится. И ты получишь то, что заслуживаешь!
Она еще долго жаловалась на свою горькую судьбу, но какое-то предубеждение мешало мне ей поверить.
На следующий день ее вызвали. В камеру она не вернулась. Позже я узнала, что это была Ванда Янковская, бригадир ШИЗО, уголовница-«сука», умеющая войти в доверие и «пришить дело» тем, кто ей верил.
Никогда не была я так близка к новому сроку, когда надежда на близкое освобождение становилась уже реальностью!
И все же она ли меня предупредила? И почему? Мне вспомнилась Верка Богданова: «Ты молодец, Фрося! Мы недостойны твоего уважения. Но мы тебя уважаем. И наши тебя в обиду не дадут!»
Странная эта штука — воровской закон. Мы постигаем учения разных древних философов, а кто проникнет в тайну лагерной философии «честных воров»?
Свет не без добрых людей, даже в Норильске
Дни шли. Силы мои таяли. Сестра, заходившая в ШИЗО по утрам, была встревожена: кровяное давление угрожающе падало; пульс почти не прослушивался. И надеяться было не на что: Кирпиченко моего заявления прокурору не передал.
Но прокурор в это дело все же вмешался. И вовремя — я осталась жива. Больше того, это послужило мне на пользу.
Как? Да так: «Не имей сто рублей…»
Ста друзей у меня не было. Однако в нужную минуту нашлись. Вернее, нашлась: Антонина Казимировна Петкун. Эта, недавно освободившаяся из лагеря женщина была действительно добрым, хорошим человеком и верным другом. Одна из расконвоированных женщин встретила ее в городе и рассказала о том, что я в штрафном изоляторе, что объявила голодовку и требую прокурора, но — не дождусь его…
Сначала Антоша кинулась в ЦБЛ, но там ее так встретили, что чуть 24 часа не дали за связь с заключенными. Тогда она обратилась к моему бывшему начальнику Коваленко. Тот позвонил прокурору, знает ли он о том, что к нему обращалась некая Керсновская (тут он характеризовал меня как образцового шахтера). Прокурор был болен, но распорядился, чтобы его заместитель занялся этим делом. Заместитель позвонил начальнику седьмого лаготделения капитану Блоху. И тут выяснилось, что Блох ничего не знал: Кирпиченко расправился со мной втихаря.
Прошла уже неделя, как я голодала в знак протеста. Неожиданно меня вызвали к Блоху. До того мне не приходилось с ним встречаться, но я слышала о его гуманности. Говорили, что он попал в систему МВД на руководящую должность, так как ему угрожала участь «руководимых» — вроде нас. Еврей, родом из Одессы. Был в действующей армии. В чем он проштрафился, не знаю. Но, будучи в рядах угнетателей, он был человечен по отношению к угнетенным.
Яркое солнце. Ослепительно белый (особенно после темноватой каморки ШИЗО) снег, хотя уже и подтаявший. Весенний — и тоже какой-то яркий — воздух ошеломил и опьянил меня. Я пошатнулась и чуть не упала. Надо было собрать все силы, чтобы не упасть.
Кабинет Блоха был по тамошним понятиям прямо-таки шикарный: высокий, оклеенный обоями, с ковром на крашеном полу. Большие окна, мягкая мебель и даже стеллажи, уставленные книгами. Тюлевые занавески, абажур, живые цветы в вазонах.
Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы оценить положение. Он встал, посмотрел вопросительно.
— Вам плохо? Садитесь! — жест в сторону кресла. — Может быть, вызвать врача? Какие-нибудь капли?
У меня «в зобу дыханье сперло» — я отвыкла от человеческого отношения.
— Благодарю… Сейчас пройдет.
Комната поплыла в моих глазах, и я упала в кресло, сползая на пол.
Наш разговор был непродолжительным. Я поняла, что он обо всем уже расспросил врача Дивинскую и со своим заместителем он тоже успел поговорить «по душам». Проект Кирпиченко намотать мне срок явно провалился.
— Поправляйтесь! Отдохните и наберитесь сил. А потом зайдете ко мне и скажете, где бы вы хотели работать.
— Благодарю вас, начальник! Я уже и теперь могу сказать, где бы я хотела работать: грузчиком на базе ППТ.
— Но это самая физически тяжелая работа! — сказал Блох, с сомнением глядя на полуживого заморыша, каким я в ту пору выглядела.
— Именно так! Но я живуча и в несколько дней встану на ноги. Работать я умею. И никакая, даже самая тяжелая работа меня не испугает. Зато так можно заработать зачеты — даже три дня за день. А это мне и нужно!
— Пусть будет по-вашему! — сказал он, подумав. — Я отдам соответствующий приказ.
Поблагодарив его, я откланялась. Голова все еще кружилась от слабости, но сердце ликовало: работа, которой добивались всеми правдами и неправдами (последнее — чаще), сама плыла мне в руки!
Я зашла в санчасть поблагодарить Дивинскую и вернулась в свой барак. Девчата были на работе. В бараке было тихо, и мне показалось даже, что тепло. С наслаждением растянулась я на своей верхотуре. Дневальная откуда-то принесла миску жидкой, зато горячей баланды. Много ли нужно человеку?
Перевалочная продуктово-товарная база (ППТ) находилась на полпути между поселком и Горстроем. Большое пространство, огороженное глухим частоколом метра четыре в высоту и тройным рядом колючей проволоки на самом частоколе. С отступом метра на три от него вокруг запретной зоны — еще забор из колючей проволоки. Почти в центре города! При мне был случай: «попка» с вышки застрелил мальчишку лет 13–14, заскочившего в азарте за футбольным мячом в запретную зону.