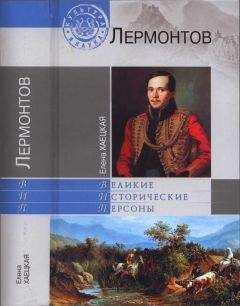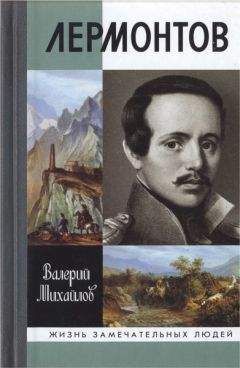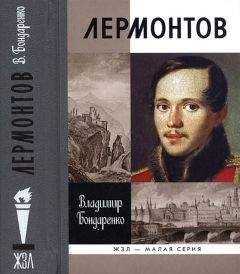В «Княгине Лиговской» он потом диагностически точно опишет этот феномен, когда будет представлять читателю «первого Печорина» (куда более похожего на самого Лермонтова, чем Печорин «Героя»): «…когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, — и в свете утверждали, что язык его зол и опасен…» — «Печорин сам не знал, что говорил. Опомнившись и думая, что сказал глупость, он принял какой-то холодный, принужденный вид».
Такую же «физиономию» Лермонтова описывает В. И. Анненкова — супруга генерал-майора H.H. Анненкова (адъютанта великого князя Михаила Павловича и дальнего родственника Лермонтова). Навещая Лермонтова в лазарете Школы юнкеров, «мой муж обратился к нему со словами привета и представил ему новую кузину, — вспоминает Анненкова. — Он (Лермонтов) смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени».
«Новая кузина» припоминает детали этого «свидания»: «Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолил при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и, думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам».
Лермонтов умел общаться с людьми только «душа к душе» — и те, кто был допущен к такому общению (на самом деле — любой, кто был способен к такому общению) видели совершенно другого Лермонтова и очень дорожили дружбой с ним. Отсюда и почти полярные характеристики его поведения, манер, даже внешности.
Глава двенадцатая
Школа юнкеров
Образовательная программа в Школе была довольно обширна. Помимо изучения военных дисциплин (артиллерия, военный устав, тактика, топография, фортификация), выездов на лагерные учения в окрестности Петергофа летом и участия в осенних маневрах близ Красного Села, воспитанники изучали математику, историю, словесность, географию, судопроизводство. Французский язык в Школе преподавал Я. О. Борде, имевший обыкновение читать на занятиях вслух по-французски комедии Мольера и других драматургов. Борде любил обсуждать с воспитанниками политические новости. Предполагают, что личность именно этого педагога вспоминалась Лермонтову, когда он создавал образ гувернера-француза в поэме «Сашка»:
Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess. Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою
По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он
И, быв уверен в дамской благодати,
Не размышлял, что кстати, что не кстати.
Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волненья:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшенья.
Приятель наш, парижский Адонис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натощак отправился в поход,
И наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.
И Саша мой любил его рассказ
Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца… Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображение;
Там слышал он святых голов паденье,
Меж тем как нищих буйный миллион
Кричал, смеясь: «Да здравствует закон!»
И в недостаток хлеба или злата
Просил одной лишь крови у Марата…
Среди преподавателей, которые должны были оставить след в сознании Лермонтова, следует назвать, очевидно, Е. И. Веселовского, читавшего курс судопроизводства. Часть его лекций по истории российского законодательства сохранилась в конспективных записях Лермонтова, где обращает на себя внимание обилие сведений, связанных с возникновением и особенностями крепостного права. Там же краткая запись: «Вольность Новгорода». О Новгороде и древних новгородцах Лермонтов слышал и на лекциях по русской истории П. И. Вознесенского, автора специального труда на эту тему. Для Лермонтова, написавшего поэму «Последний сын вольности», стихотворения «Приветствую тебя, воинственных славян» и «Ново-город», эти лекции представляли несомненный интерес.
По свидетельству товарищей, особенно интересовала Лермонтова теория словесности, которую читал В. Т. Плаксин («Лекции из военного слова»).
Будни Школы складывались из занятий и строевой подготовки, а свободное время отдавалось светским развлечениям и кутежам.
Поднимались барабанным боем в 6 утра; после завтрака отправлялись на занятия, которые длились с 8 до 12 часов. Вечерние занятия проходили от 15 до 17 часов, а строевым посвящался час от полудня до часа дня. Только некоторым юнкерам, по усмотрению командира, вменялось в обязанность обучаться строю еще один час. Бабушка старалась, как могла, облегчить участь «милого Мишеля», такого нервного и болезненного. В первые дни, сразу после поступления Лермонтова в Школу, она приказала его слуге потихоньку приносить барину из дома всякие яства, а поутру будить его «до барабанного боя» — из опасения, что пробуждение от внезапного треска дурно скажется на нервах внука. Узнав об этом, Лермонтов страшно рассердился.
По поводу этого пресловутого барабанного боя решительно высказался Л. М. Миклашевский, который заявил (1884 год), что «обращение с нами в школе было самое гуманное, никакого особенного гнета, как пишет Висковатов, мы не испытывали… Дежурные офицеры обращались с нами по-товарищески. Дежурные, в пехоте и кавалерии, спали в особых комнатах около дортуаров. Утром будили нас, проходя по спальням, и никогда барабанный бой нас не тревожил…» Висковатов, впрочем, настаивал на своем — опираясь на воспоминания г-жи Гельмерсен, жены командира Лермонтова.
О «ношении яств» вспоминает и Аким Шан-Гирей: «Школа была тогда на том месте у Синего моста, где теперь дворец ее высочества Марии Николаевны. Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланскова, и я почти каждый день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными холодными и страсбургскими паштетами, конфетами и прочим…»
Бабушкино баловство было хорошо известно товарищам Лермонтова, и, что любопытно, они не высмеивали ни «нежного Мишеля», ни чудаковатую старушку. А. Ф. Тиран, например, вспоминал об этом так: