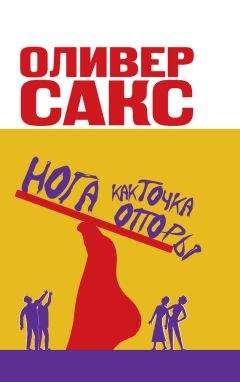Я обследовал десятки пациентов, перенесших ампутацию, у которых возникали позитивные фантомы, негативные фантомы или и те и другие. В этих случаях также нарушения или дефекты образа тела, часто странные и пугающие, обнаруживали объективную корреляцию с поражениями восприятия и репрезентации в коре.
Эти многочисленные наблюдения и данные исследований на протяжении ряда лет дали ясный ответ на первый из моих вопросов: возникают ли тяжелые нарушения образа тела или телесного Эго в результате периферического поражения, болезни или увечья? Ответ представляет собой решительное «да».
Такие нарушения, как и полагал Лурия, весьма распространены: более того, они почти неизбежны и, возможно, универсальны, если имеет место соответствующее нарушение периферической чувствительности или функционирования.
Более того, эти данные предложили ответ и на вторую часть вопроса: если подобные нарушения так распространены, почему они обычно не фиксируются? Позволяя своим пациентам описывать свои ощущения полно и свободно, не ограничивая их какой-либо нейрологической инструкцией, я снова и снова получал описания эмоциональной и экзистенциальной интенсивности, никогда (или почти никогда) не встречающиеся в научной литературе. Каждый пациент с тяжелым поражением образа тела страдал в равной мере от тяжелого поражения телесного Эго. Мне становилось все более ясно, что каждый пациент приобретает глубочайший онтологический опыт, сопряженный с распадом, растворением, аннигиляцией бытия в пострадавших частях, что сопровождается элементарной отчужденностью, чувством нереальности и столь же элементарными тревогой и ужасом. За этим следует, если больному повезет и он поправится, не менее элементарное чувство возвращения реальности и радости. Каждый такой случай, если использовать средневековый термин experimentum suitatis (эксперимент на себе), есть элементарное изменение себя, имеющее совершенно очевидный органический нейрологический базис. Была ли неврология, эмпирическая дисциплина, достаточно оснащена, чтобы принимать во внимание такие радикальные перемены в реальности или идентичности? До какой степени могла она позволить таким ощущениям проявляться?
Классическая неврология основывается на концепции функции — сенсорной функции, моторной функции, интеллектуальной функции и т.д. Ее самым выдающимся представителем в Англии был сэр Генри Хэд (1861—1940). Среди многих его интересов было постоянное изучение природы чувствительности, в чем он был выдающимся первопроходцем. Некоторые из его самых ранних наблюдений основывались на экспериментах на себе. Он подробно описывал последствия рассечения периферического нерва на собственной руке. Изучение чувствительности привело его к представлению о схеме, или образе, тела в мозгу, благодаря которой тело «знает» и контролирует собственные движения. Наблюдения более чем за двадцать лет были обобщены в его выдающемся труде «Неврологические исследования» (1920). Однако давайте посмотрим, как Хэд описывает глубокое сенсорное поражение:
«Пациент был совершенно не способен опознать положение, которое придавали его нижним конечностям. С его щиколотками, коленями и бедрами можно было производить экстенсивные движения неведомо для него. Если его глаза были закрыты, его вытянутые ноги можно было перемещать в любом направлении, а колено — сгибать на 40 градусов; при этом он все еще полагал, что ноги вытянуты перед ним на постели. Когда ему разрешали открыть глаза, выражение изумления ярко свидетельствовало о величине его заблуждения».
Это прекрасное описание. Мне оно напоминает в точности то, что случилось, когда я попросил сестру Сулу переместить мою ногу. Все абсолютно точно — но достаточно ли этого?
У меня была пациентка с точно такой же патологией: метастазами раковой опухоли, затрагивавшими несколько сенсорных спинальных нервов, что было связано также с поражением некоторых позвонков. Однако ее ощущения были гораздо более странными, удивительными и шокирующими. «Мое бедро исчезло, — говорила она. — Раз — и нету». Термины, которыми пользуется Хэд, — термины классической неврологии — совершенно адекватны для описания полной потери функции, но они не могут описать исчезновение, потому что оно — не только потеря функции. Такое ощущение может последовать за потерей функции, но само по себе оно нечто большее.
До тех пор пока Хэд ограничивается тестированием функций и использованием соответствующих терминов, его описания упускают нечто жизненно важное, экстраординарное. Но позволим ему на мгновение забыть неврологический язык и просто дать слово пациентам. В таких случаях (их немного) выясняется нечто совершенно поразительное. Так, мы читаем о пациенте, который жаловался на то, что «его правая нога ощущается в точности как нога из пробки», или о лейтенанте У., который разбился на самолете и понял, что повредил спину, потому что почувствовал, что «имеет только голову и плечи». Нельзя сказать, что Хэд не проявлял личного интереса к пациентам. Мой отец, который был у него стажером шестьдесят пять лет назад, рассказывал мне, что Хэд «был полон любопытства и симпатии» и его зачаровывали странные описываемые пациентами ощущения. Однако как невролог он исключал такие описания и только редко и случайно упоминал о них. Им никогда не придавалось главенствующего значения. Так, похоже, обстоит дело и с классической неврологией в целом — стремясь создать строгую теорию функций, она исключает любые наблюдения, выходящие за эти рамки. Когда неврология, так сказать, забывается, она может их пропустить и быть точной и прозрачной в описании ощущений пациентов, но стоит ей вернуть свою эмпирическую строгость, как описания становятся расплывчатыми.
Как это ни парадоксально, только на рассвете, на донаучном этапе, до того как неврология оказалась слишком огорожена собственными концепциями, она была полностью открыта для исследования опыта. Так, в 1860 — 1870 годы, во время Гражданской войны в Америке, Уэйр Митчелл проявил восприимчивость к идее фантомных конечностей и к экзистенциональным нарушениям, так живо описанным в «Джордже Дедлоу». Уэйр Митчелл сообщает о наличии таких симптомов у сотен пациентов. Однако на рубеже веков подобные описания становятся чрезвычайно редкими. В неврологии не оказывается места для чего-то экзистенциального.
В то время как классическая неврология сохраняла и продолжает сохранять свою важность и остается незаменимой для изучения «низших» функций, постепенно становилось ясно, что требуется новый подход, новая наука. Эта потребность достигла кризиса во время Второй мировой войны. Новая наука нейропсихология, предзнаменования которой появились в 1930-е годы, достигла совершеннолетия в Советской России и особенно в трудах Лурия (Р.А. и А.Р — отца и сына), Леонтьева, Бернштейна и других. Во время Первой мировой войны немногое делалось — и могло быть сделано — для пациентов с неврологическими повреждениями. Они получали физиотерапевтические процедуры в надежде, что время и природа придут на помощь. К появлению нейропсихологии во время Второй мировой войны привел спрос на нейротерапию; родились концепции, выходившие за рамки функции. Было обнаружено, что больные с поражениями мозга и иными неврологическими поражениями испытывают странные трудности в деятельности. Нейропсихология имела целью стать наукой, изучающей действие, и ее центральной концепцией стала не функция, а «функциональная система» и «производительность».